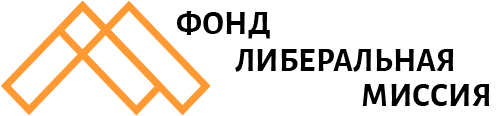Обратный транзит в России: недоразвитый нео-тоталитаризм или авторитарный пост-модернизм?
Участники:
Татьяна Ворожейкина, независимый исследователь; Лев Гудков, директор Левада-Центра; Алексей Захаров, доцент факультета экономических наук НИУ ВШЭ; Игорь Клямкин, вице-президент
Фонда «Либеральная Миссия»; Дмитрий Орешкин, ведущий научный сотрудник Института географии РАН; Эмиль Паин, профессор кафедры государственной и муниципальной службы Факультета социальных наук НИУ ВШЭ; Георгий Сатаров, президент Фонда ИНДЕМ; Максим Трудолюбов, редактор-обозреватель газеты «Ведомости»; Екатерина Шульман, доцент Института общественных наук РАНХиГС; Евгений Ясин, научный руководитель НИУ ВШЭ, Президент Фонда «Либеральная Миссия»
Ведущий: Кирилл Рогов, политолог.
Кирилл Рогов:
Предмет нашего разговора – обсуждение
нового качества политического режима в России. Очевидно, что после аннексии
Крыма и войны на Украине мы имеем дело с неким другим режимом. Мне даже
кажется, что события февраля – марта 2014 г. можно охарактеризовать как своего рода
переворот: принятое в узком кругу решение по Крыму кардинально изменило и
внешнеполитические, и внутриполитические балансы, резко понизив вес одних элит
и увеличив вес других, бесповоротно отрезало определенные возможности,
определило новую траекторию эволюции для поздне-путинской России. Впрочем,
изменение качества и природы режима началось, видимо, раньше, с 2012 г., с того кризиса,
которым было ознаменовано возвращение В. Путина в президентское кресло, и
события 2014 г.
следует рассматривать как последствие этого кризиса.
Каковы сущностные характеристики этого
нового (если он новый) режима или каковы направления его эволюции? Где мы можем
расположить его в сравнительной перспективе среди известных нам типов
авторитарных режимов? Авторитарные режимы – одно из самых модных сегодня
направлений в сравнительной политологии, и кажется, опыт России 2000 – 2010х
гг. добавит нечто новое в общую теорию авторитаризма. Мы наблюдаем историю
своего рода «обратного транзита», и интерес сегодня для политолога состоит в
том, как далеко мы продвинемся назад по этому пути и насколько устойчивыми
окажутся успехи этого политического регресса?
Характер российского политического
режима второй половины 2000х гг. в целом вполне укладывался в рамки концепции
«конкурентных, или электоральных авторитаризмов» — режимов, в которых
несменяемость власти обеспечивается средствами минимального насилия на фоне
относительной популярности режима среди населения. Этот тип легитимации
опирался на экономические успехи и не-всеобъемлющий контроль СМИ и политической
активности. С 2012 г.
расширяются как репрессивные практики режима, так и пространство его контроля
над масс-медиа и разными аспектами общественной жизни. Принципиально новую роль
начинает играть государственная пропаганда. Разрыв с западными ценностями
постепенно превращается в идеологическую доктрину или что-то на нее похожее.
Для обсуждения характера и качества
происходящих изменений я бы предложил, во-первых, базовую оппозицию
тоталитарных и авторитарных режимов, которая была разработана в политологии еще
во второй половине прошлого века Хуаном Линцем. Долгое время казалось, что
тоталитарная парадигма навсегда осталась в 20 веке, но сейчас есть ощущение,
что в том или ином виде эта проблематика возвращается в политическую повестку.
Насколько можно использовать какие-то понятия концепции тоталитаризма для
описания эволюции сегодняшних вариантов авторитарных режимов?
Это не единственная перспектива.
Хотелось бы в целом оценить нынешнюю политическую эволюцию в контексте тех
типологий недемократических режимов, которые сегодня существуют. Можно
использовать, мне кажется, такую важную для многих режимов дихотомию, как
«внешняя открытость – закрытость». Например, есть ряд авторитарных режимов, где
закрытость является одной из ключевых черт: Куба, Корея, в какой-то степени
Иран. Есть режимы идеократические и менее идеократические – это тоже разные
способы легитимации недемократического правления. Есть постсоветские авторитарные
режимы, которые держатся на своеобразной постсоветской легитимности (здесь
часто используют термин нео-патримониализм). Вокруг этих оппозиций мы можем
построить наше обсуждение.
Лев Гудков:
Я думаю, что мы имеем дело с рецидивом
тоталитаризма. Это еще не окончательная форма, но нарастают тенденции, которые
находятся пока в стадии развития. Эти тенденции не есть нечто принципиально
новое, а скорее реанимация и продолжение старого. Поскольку часть тоталитарных
институтов оказалась вполне живой, а других образцов и институциональных
практик не появилось, в ситуации кризиса легитимности и некоторых экономических
проблем идет заимствование, реанимация старых практик и идей в несколько другой
композиции.
Концепция «авторитаризма» описывает
скорее управленческий сектор и стиль управления, а также технологии господства,
чем институциональную систему, и, как понятие, кажется крайне неопределенным.
Тоталитаризм – это более жесткая конструкция.
Что мы имеем в качестве признаков?
Во-первых, это сращивание партии и государства: полное подчинение партийной
системы государственному аппарату (в нашем случае – Администрации президента).
За счет этого достигается полный контроль над кадровыми перемещениями и
соответственно управление социальными процессами. Второе – персоналистская
система господства. Крайняя централизация принятия решений и соответственно
легитимности. Третье – всевластие секретной политической полиции, которая
действует вне правового пространства. Соответственно, она наделена
экстраординарными полномочиями и решает очень много проблем от экономических до
управленческих, кадровых, военных и прочее. Еще один признак – это подчинение
экономики политическим целям и, соответственно, усиление государственного
контроля над экономикой.
Относительно террора — еще одного
признак тоталитарного режима. Как мне представляется, это важный, но вторичный,
производный признак тоталитаризма. Масштабный террор нужен в отношении
сравнительно неграмотного населения. Напомню, что во времена «большого террора»
грамотность населения в среднем едва достигала трех классов, поэтому
идеологическая проработка была бессмысленна – люди не понимали тонкостей
марксизма. Сегодня, при очень высоком уровне грамотности появляются совершенно
другие технологии манипулирования общественным мнением в условиях фактической
монополии Кремля над информационным пространством. Соответственно необходимость
репрессий, направленных на дисциплинирование и устрашение населения, снижается.
То, что меня смущало раньше, это
отсутствие у нынешнего политического режима идеологии. Однако, как раз в
последнее время, масса элементов в этой сфере, которые до того были разрознены,
сложились в систему. И теперь вполне можно говорить о наличии идеологии как
системы легитимации власти, интеграции населения, охватывающей области и
внутренней, и внешней политики. Это — идеология «русского мира» или
«разделенной нации», идеология государственного патриотизма, все более и более
определяющая деятельность других институтов от системы образования и до суда,
политической полиции, экономики и прочее.
То, что эта идеология не носит
эсхатологического характера, как другие тоталитарные идеологии, не так важно. В
основе всех тоталитарных идеологий лежит некое очень архаическое представление
(почвы, расового превосходства, какая-то утопия общинности – религиозной или
племенной), реализуемое современными технологическими средствами. В этом смысле
обращение к такой архаической идее как племенной патриотизм или вера в единство
происхождения, замещающие классовую борьбу или нечто подобное, как основа
политического единства – функционально вполне заменяемые вещи.
Продвижение в направлении тоталитарных
институтов обусловлено сильнейшей фрагментацией общества, его
дезориентированностью, уничтожением или подавлением любых гражданских
посредников. Общество было и так достаточно атомизировано, но сегодня властью
предприняты специальные усилия для того, чтобы его структуру предельно
примитизировать.
Еще одна причина – очень высокий уровень
тревожности и фрустрированности. Это не боязнь политических репрессий, а общий
устойчивый страх перед нестабильностью, дезорганизованностью общества, потерей
старых институтов. Этот страх формирует спрос на лидера, на патерналистское
государство, что и ведет к нынешнему мобилизационному состоянию. И тот уровень
одобрения и поддержки, который демонстрируют сегодня опросы, свидетельствует о
некоем новом состоянии единомыслия. Насколько оно устойчиво – это другое дело.
Алексей Захаров:
Мне кажется, что в основе идеологии
практически всех недемократических режимов, и даже некоторых демократических,
лежит учение о существовании внешнего врага, который аксиоматически пытается
навредить стране, покуситься на ее территориальную целостность и суверенитет.
Некоторым вспомогательным представлением является тезис об игре с нулевой суммой,
т.е. наличии в любой ситуации проигравшего и выигравшего.
В идеологии для внутреннего пользования
есть несколько очень важных черт. Первый – это отсутствие такой категории как
ценности. Вторая «черепаха», на которой стоит внутренняя идеология, – это
учение о том, что демократические институты принципиально не могут работать, по
крайней мере, в нашей стране, потому что российский народ не способен этими
институтами пользоваться.
Одна из наиболее распространенных
классификаций авторитарных режимов выделяет монархии, военные диктатуры,
персоналистские и однопартийные режимы. Я согласен с тем, что нынешний
российский режим является персоналистским. Есть свидетельства того, что Путин,
в частности, сам принимал решение о том, что Крым должен быть именно частью
России.
Но главная черта нынешнего режима
состоит в том, что лидер пробыл у власти уже 15 лет и, по всей видимости,
пробудет еще три года, и еще 6 лет. Если мы посмотрим на статистику стран, где
лидер пробыл у власти 24 года или больше (данные по всем странам с 1945 года), то
из них всего в 9 случаях это закончилось добровольным уходом лидера (в том
числе успешной операцией «преемник», когда полностью недемократическим путем
была передана власть, либо уходом по состоянию здоровья), 15 случаев закончились
естественной смертью лидера и еще 12 – в результате насильственной смены
власти. Еще 8 таких лидеров до сих пор у власти[*].
Исходя из этой статистики, мы можем предполагать, что, если не произойдет
революции или переворота, то с вероятностью более 50% Путин умрет на своем
президентском посту. Поскольку отец Владимира Путина прожил 88 лет, а мать 87
лет, нас, возможно, ждет еще около 25 лет его власти.
Какие особенности у российского режима?
Конечно, он является весьма инновационным в плане управления общественным
мнением, контроля над СМИ. Это проявляется и в том, как он пытается решить и
успешно решает проблему интернета, и в том, как он, используя минимум
политического насилия, поддерживает статус-кво.
Один из основных инструментов режима –
это борьба с институтом репутации. Это кран от бочонка, который находится в
руках Путина: он может налить стакан репутации, и тогда вы будете уважаемый
человек. При этом другие источники репутации не приветствуются. И я считаю, что
фонд Дмитрия Зимина «Династия», например, пострадал в первую очередь потому,
что это был альтернативный маленький бочонок, из которого экспертное сообщество
наливало репутацию в маленькие стаканчики. Из-за этого отчасти пострадала
Российская академия наук, потому что это был независимый орган. Согласно этой
логике, мне кажется, был принят и закон об иностранных агентах: это тоже борьба
с чьими-то неподконтрольными репутациями.
Пожалуй, я согласен с тем, что режим
движется в сторону тоталитарного. Мы видим некоторые проявления этого:
например, человека где-то сажают за то, что он написал стихи про Украину. В
моем понимании тоталитарный режим – это режим, который решает за людей, что им
можно думать, а что нет. Но при этом мы знаем, что бывают тоталитарные режимы
намного более жесткие.
Дмитрий Орешкин:
Можно согласиться, что есть признаки
нарастающего тоталитаризма, если толковать этот термин широко. Но в целом я бы
определил существующий в России политический режим скорее как гибридный. Мы
видим целую серию гибридов: гибридная война – то ли она есть, то ли нет,
гибридная державность, гибридный тоталитаризм.
Какие сущностные черты важны? Советский
стиль жизни, когда слова и образы важнее эмпирики. Виртуальный «подъем с колен»
важнее падения доходов на фоне роста цен, снижения уровня и качества жизни,
реальной свободы передвижения. На повестке снова «духовная» компенсация
материальных провалов. В том числе — реального размывания государственных
институтов. Теряют смысл выборы как практический механизм влияния на власть. А
зачем на нее влиять, если она и так идет единственно верным путем – от победы к
победе? Независимый суд — зачем он, если есть мудрое и справедливое начальство?
Парламент все больше походит на Верховный Совет СССР. Системные политические
партии – на нерушимый блок коммунистов и беспартийных.
Ключевой тезис – идеократичность
государства. Это любимый термин А.Г.
Дугина. Смысл одних режимов состоит в обслуживании граждан. Смысл других — в
достижении некоей великой идейной цели, ради которой граждане могут и должны
потерпеть. Идеал может быть марксистским, исламистским, нацистским, фашистским
(государство-корпорация), чучхеистским, джамахирийским – каким угодно. В
теоретически завершенном виде идеократический режим должен опираться на
внечеловеческие факторы: основополагающая Идея низводится или прямиком от
Аллаха, или вытекает из Объективных Законов Классовой Борьбы (Истмат), или, как
у Дугина, из столь же объективного геополитического противостояния
Талассократии (Атлантизма) и Теллурократии (Евразийства).
Таким образом лидеры Идеократии
освобождаются от личной ответственности — они всего лишь скромные выразители
Воли Провидения или Объективного Исторического Закона. Но, с другой стороны,
любая критика в их адрес, не говоря о попытках отстранить от власти, сразу
приравнивается к ереси, предательству и преступлению против народа и Родины.
Поскольку на самом деле все Идеи
конструируются на земле, в функциональном смысле Идеократия подразумевает
наличие некоторой группы профессиональных Носителей Истины (сакральных
жрецов-эзотериков), которые одни ведают, что идейно, а что нет, и ведут за
собой профанное население единственно верным путем. С помощью сурового, но
необходимого аппарата принуждения – как же иначе. Понятно, ни о какой
демократии в совершенном идеократическом государстве не может быть и речи –
когда это пастырь советовался с паствой? Не может быть речи и об ошибке в
выборе пути – ибо только Носители Истины могут судить, насколько они
продвинулись к Великой Цели. Не населению же это решать.
У Сталина была почти совершенная
Идеократия. У Путина – гибридная. Во время переписи населения 2000 г., заполняя графу «род
занятий» он указал услуги населению. Шутка. Через 15 лет, аккуратно воссоздав
аппарат почти тотального идеологического и политического принуждения, он
превратился в эксклюзивного защитника народа от агрессии США. Интересно, как
непринужденно КГБ, 30 лет назад преследовавший Православие как разрушительную
альтернативу единственно верной коммунистической Идее («опиум для народа»),
переквалифицировался в аппарат защиты и поддержки православных духовных скреп,
сакральных истоков, национального кода и пр. Им неважно, какую Идею
обслуживать. Важно, чтобы она оправдывала и объясняла их несменяемое пребывание
у власти. Так в КНДР легко поменяли устаревшую идею марксизма на более удобную
идею Чучхэ, оставив без изменения главное: структуру удержания власти и
привилегий в руках сакрально-эзотерической династии Кимов и близких к ним
силовиков.
В структурном и философском отношении
это возврат к первобытному синкретизму, когда государство де факто все меньше
нуждается в органах, разделяющих сферы компетенции, а язык – в терминах,
описывающих это разделение. Картинка мира упрощается: наверху есть лик власти
(царь, вождь, национальный лидер), внизу есть лик народа (трудящиеся массы,
племя, народ). Все промежуточное – преходяще, зыбко и необязательно. Что такое
губернатор, сенатор, судья, министр? Термины тоже опускаются к родо-племенному
уровню. В пределе: братья и сестры, братские народы, Родина-мать, отец народов,
«мы» и «они». До этого Россия еще не дошла, но четкое правовое понятие
«президент» уже сменилось расплывчатым «национальным лидером».
Отсюда несколько реальных разворотов.
Географически – разворот к Азии, с Запада на Восток. Особая цивилизация,
евразийцы. На самом деле, это продолжение советского тренда, реконструкция
султаната: закрывается столица, которая была «окном в Европу», открывается
допетровская столица в Москве. Реставрируется «железный занавес» на западном
фланге, информационные рогатки, цензура. В эволюционном смысле – разворот к
светлому прошлому. Сталинские это образцы или, наоборот, монархические — не
суть важно. И те, и другие предельно мифологизированы, вульгаризированы. Так т.
Сталин, в зависимости от обстоятельств, позиционировал себя то как борца с
кровавым царизмом, то как продолжателя дела Ивана Грозного, Петра, Александра
Невского и Кутузова. И никаких противоречий!
Естественно, это ведет к нарастающему
отставанию и самоизоляции. Элита терпит, потому что лучше потерять многое, чем
все. Население погружается в когнитивный диссонанс: победами полон телевизор, а
жить становится все трудней. В перспективе обострение конфликта между группами
(и территориями), чьи интересы и приоритеты связаны с европейскими ценностями
(Москва, крупнейшие города, Калининградская область) и консервативными
азиатскими региональными субкультурами. Власть — это видно по электоральной
статистике – все откровенней опирается на азиатский стиль. Чеченская модель
«выборов» одобряется и расширяется, европейская модель сжимается и подвергается
осаде в урбанизированных очагах сопротивления.
Режим идет вниз, но дна, чтобы
оттолкнуться, нет. Легальные механизмы смены или модификации режима через
выборы и законную политическую конкуренцию уничтожены. Значит, его смена
произойдет в результате либо заговора разочарованных элит, либо вспышки
неконтролируемого насилия, связанного с внутренними или внешними конфликтами.
Максим
Трудолюбов:
Я вернусь к классификации авторитарных
режимов Барбары Геддес, которая уже была упомянута. База данных, разделяющая режимы
на военные, однопартийные, персоналистские, показывает, что военные режимы
живут меньше всех, быстрее заканчиваются и с большей вероятностью приводят
потом к (плюралистической? демократической?) политической системе.
Однопартийные режимы живут дольше всех, и чаще ведут к конкурентной
политической системе. Персоналистские режимы реже всего заканчиваются хорошо,
они заканчиваются либо «вперед ногами» (смертью лидера), либо конфликтом,
связанным с нерешенностью проблемы преемничества. Это самое слабое место таких
режимов – отсутствие институциональной схемы передачи власти. И тогда это
становится уже творчеством масс.
Я склонен думать, что у нас
персоналистский режим. Он движется отчасти в сторону тоталитарного режима, но я
не очень представляю себе такое приближение, потому что для тоталитарного
режима нужны очень большие ресурсы, очень существенная мобилизация, которую с
большим трудом можно представить в современных обществах. Трудно себе
представить такие проекты как строительство «Магнитки» сегодня. Но необходима
мобилизация такого порядка, чтобы прийти к настоящему тоталитарному режиму.
Существенное обстоятельство в наших
условиях – это наличие большого количества интересов, которые не совпадают с
государственными. Тоталитаризм — это «ничего за пределами государства». Но у
нас за пределами государства находится очень многое. Сегодня элита прекрасно
играет на стороне государства, на стороне Кремля, потому что это ей выгодно. И
до сегодняшнего момента не было таких ситуаций, когда этим игрокам было по-настоящему
нужно играть в какую-то другую игру.
Важно и то, что значительная часть
интересов зафиксирована не только в России. Оффшорный характер экономики важен,
любой большой актив имеет два типа гарантий – внутри и вне. Внутри – это некий
неформальный набор гарантий за счет личных отношений и связей, который
характерен для персоналистских режимов. А за пределами страны – это формальные
гарантии собственности. Это существенное обстоятельство, которое держит режим,
и полная изоляция будет означать очень глубокие изменения. Потому что
исчезновение внешних формальных гарантий создаст гигантский спрос на
справедливость, на некоторые механизмы разрешения конфликтов. В идеале это
должно привести к появлению внутри страны суда, институтов разрешения
конфликтов.
Попытки решить этот вопрос с помощью
амнистии пока не дают результатов. Бизнес практически не реагирует на
предложение переводить активы в Россию. Так что мне кажется, что сегодня
существенным фактором является то, что Россия находится между двумя
модернизациями – между западной и, условно говоря, азиатской, и пока не
движется ни в ту, ни в другую сторону.
Брюс Буэно де Мескита в своем знаменитом
«Руководстве для диктаторов» исходит из того, что логика удержания власти
требует перераспределения активов в пользу наиболее лояльного круга. Собственно
основная игра – это работа с приближенными, формирование круга победителей.
Если говорить о российской ситуации, то, вероятно, внутри правящей группы
существует расхождение между двумя стратегемами. Можно стараться расширять
пирог, который делится, или не расширять пирог, а просто делить то, что есть.
Первая позиция – это идеи Грефа и Кудрина о новой волне реформ. Для этого нужно
улучшить инвестиционный климат, создать экономические зоны и т.д. – по списку
Назарбаева. Но Путин этого не понимает или считает опасным. Из этих двух
направлений больше шансов победить у тех, кто за передел. Путин вряд ли
способен согласится на реформы, и в любом случае это не будут настоящие
институциональные реформы. Эта развилка будет усиливать давление внутри
системы, выбор в пользу передела будет вести к увеличению качества конфликтов и
будет подвергаться постоянным испытаниям способность лично Путина решать эти
конфликты.
Георгий Сатаров:
На мой взгляд, тенденции последних двух
лет — это просто ускорение тех тенденций в эволюции политического режима,
которые начались больше 10 лет назад. Такое ускорение связано с тем, что вдруг
начали рушиться какие-то механизмы устойчивости режима. Модель, которая в
результате, формируется – это то, что в институциональной теории называется
модель рентной экономики (rentseekingeconomy),
модель централизованного регулирования доступа к ренте (в 2000е гг. появилось
немало работ на эту тему). В 2000е гг. объем ренты в России начала резко расти,
и довольно быстро начала развиваться система политического обеспечения
присвоения ренты и регулирования этого присвоения. Норт, Валлис и Вейнгаст
характеризовали путинскую Россию как естественное государство с режимом
ограниченного доступа[†].
Теперь главный вопрос – это противоречие
между сформировавшимся политико-экономическим режимом, который предельно
заточен на ренту и двумя другими факторами: начавшимся сокращением ренты, с
одной стороны, и институциональной деградацией, с другой. В рамках режима
отсутствуют всяческие механизмы компенсации этих проблем. Это противоречие не
разрешимо и для режима абсолютно разрушительно.
При этом мне кажется, вопреки сказанному
выше, что никакой идеологии у нынешнего политического режима нет. В тех
тоталитарных режимах, которые мы знаем, идеологическая миссия шла с самого
верха – либо от лидера режима, либо от ближайших к нему людей. В данном случае
лидеру и его ближайшему окружению идеология в принципе чужда. По крайней мере
до сих пор они считали, что информационного насилия с вбрасываемыми мифами или
диверсиями в отношении либеральной идеологии вполне достаточно. Идеология здесь
была не существенна, и влияние этой идеологии на массовое сознание – это
типичный социологический миф, что можно подтвердить на социологических данных.
Существенный фактор здесь – это агрессивность пропаганды.
При этом рост рейтинга, цифр поддержки –
это не проявление поддержки, а инфляции поддержки. Дело в том, что Путин
никогда не был персоналистским лидером, на мой взгляд. Это миф, что он умеет
хорошо разрешать конфликты. Когда к нему приходили представители двух
группировок, он им говорил, идите и договаривайтесь, а потом приходите. Вот его
способ разрешения конфликта. Представления, что он внутренний регулятор всего и
вся, очень сильно преувеличены, точно также как преувеличены его управленческие
функции. Его главная функция внутри договора элит – обеспечить поддержку режима
с помощью своего рейтинга, личной популярности. Здесь не Путин хозяин, а вот
эта бюрократия, которую он защищает: своим рейтингом он гарантирует
стабильность режима. Элите это было понятно, и они об этом открыто говорили еще
в 2003-2004 гг. И это началось с самого начала: он устраивал шоу во всей стране
и во всем мире. Он символическая защита режима.
Итак, у Путина – две функции. Первая –
это защита интересов бюрократии за пределами страны. И это сейчас полностью
обрушено. Вторая функция – защита бюрократии внутри страны. И здесь, с одной
стороны, поддержка есть, но элиты чувствуют, что проблемы нарастают. В
результате, возникает механизм инфляции: для того, чтобы демонстрировать, что
он им нужен, Путин должен увеличивать вот эту самую цифру поддержки. Отсюда
возникают все эти 85% или 89%.
Путин появился
как следствие альянса между частью силовиков и либералов. Это был внутренней
договор такого либерального рывка в условиях ограничения демократии. Такова
была идеология первого президентства, которая потерпела фиаско. И я думаю, что
мы увидим сигналы, исходящие от недовольной часть правящей коалиции, которая
должна компенсировать возникший дефицит. Мы уже видим в публичной сфере вброс
сигналов своим. Они будут помогать оппозиции участвовать в выборах и получать
более или менее нормальный результат. Сегодня их ограничивает больше всего
отсутствие сильной и достаточно консолидированной оппозиции.
Татьяна
Ворожейкина:
Хотя между тоталитаризмом и
авторитаризмом, конечно, не существует жесткой грани, существуют режимы,
которые можно характеризовать как промежуточные. С этой оговоркой я все-таки
считаю путинский режим авторитарным.
В своей классической работе Хуан Линц
(испанец по происхождению и американский политолог) подробно обсуждает
различие межу авторитаризмом и
тоталитаризмом. Для того и другого характерна несменяемость власти на выборах.
В этом смысле термины «гибридный режим», «электоральный авторитаризм» мне
кажутся излишними, потому что для многих авторитарных режимов были характерны и
выборы, и имитация конкуренции. Второе – это та или иная степень ограничения
свобод и контроль над СМИ. Третье – репрессии. Опять-таки та или иная степень
официальных и еще больше экстра-официальных репрессий была характерна для
многих латиноамериканских режимов.
Почему нынешний российский режим, на мой
взгляд, не тоталитарный. Как и Ханна Арендт, я считаю, что тоталитарных режимов
было два с половиной. Советский, нацистский и на половину итальянский, который
не был вполне тоталитарным, если говорить о таком признаке как степень
всеохватности контроля. В России контроль, хотя и обеспечивается террором и
идеологией, совершенно не носит тотального характера (во всяком случае – за
пределами Чечни).
Кроме того, с моей точки зрения,
основной характеристикой тоталитарного режима является мобилизация. Режим
Муссолини был мобилизационным, но в весьма карикатурном виде, что спасло тысячи
жизней. Нынешний российский режим, несмотря на «русский мир», до сих пор
ориентирован на пассивную поддержку. Если мы посмотрим на то, как обходится
режим с этим «русским миром», то становится очевидно, что ему не нужны
активисты, пассионарные носители этой идеи. Он их отстраняет и устраняет. Ему
по-прежнему нужно общество телезрителей. Это отнюдь не мобилизационная модель.
Еще одна важная черта: идеология
нынешнего российского режима не всеохватна. Я хочу сослаться на последние
тексты Дениса Волкова и исследования «Левада-центра», показывающие, что 50%
населения вообще ничем не интересуется. Им это все до лампочки, у них огород,
свадьбы детей, стройка и так далее. Кроме того, я хотела заметить, что те
черты, которые Л.Д. Гудков привел в качестве признаков движения к
тоталитаризму: сращение партии с государством, персоналистская система
господства, всевластие политической полиции – в Латинской Америке были
свойственны авторитарным режимам.
Таким образом, в целом я считаю, что это
режим авторитарный, находящийся в стадии ужесточения. Становление авторитарного
режима в России началось в начале 2000-х гг., в 2013-2014 гг. обозначили
переход от электоральной легитимации к легитимации военной (это термин Николая
Петрова), который был связан с кризисом легитимности в связи с сокращением базы
поддержки режима примерно на трать в начале 2010-х гг. Еще одна сущностная
характеристика режима — это хищнический авторитаризм. Контроль над экономикой захватили
выходцы из репрессивных структур. Но они не могут эффективно управлять
бизнесом. Они могут только грабить бюджет, «крышевать»,
«отжимать» и т.д. Такой хищнический (predatory) авторитаризм, который
основан на единстве власти и собственности, где отсутствует правовая защита
собственности, рано или поздно ведет к свертыванию конкурентного рынка. Cама логика его политического развития ведет к
экономической стагнации.
Опасность тоталитарной эволюции режима,
о которой говорил Л.Д. Гудков, существует. Но главным препятствием для
возвращения к тоталитаризму является та западная модель потребления, которая утвердилась
в России в последние 20 лет и которая, на мой взгляд, несовместима с
возвращением к тоталитаризму. Я напомню, что становление тоталитарной системы в
Советском Союзе было связано с уничтожением существующей модели потребления в
результате гражданской войны и социальной катастрофы. Я не вижу, как ее можно
разрушить сейчас без массовых репрессий.
Однако для репрессий нужен репрессивный
аппарат. Опыт Латинской Америки говорит, что репрессивные структуры эффективны
только тогда, когда у них нет собственных экономических интересов. Когда у них
появляются предприятия и контроль над экономикой, они становятся мало
эффективны по своей основной специальности. Вместе с тем, в нацистской Германии
существовал рынок и сохранялась старая модель потребления, несмотря на кризис
1920-х гг. и жесткое государственное регулирование. Но это было всего 12 лет, и
в условиях войны.
Все тоталитарные и большинство
авторитарных режимов латиноамериканского типа являлись продуктами внутренних
кризисов индустриальной системы. То, с чем мы сталкиваемся сейчас, это
постиндустриальная система или ее подобие в условиях «сырьевой модели». Я
соглашусь с тем, что есть элементы тоталитаризма: тотальная пропаганда,
подчинение этой пропаганде массового сознания. Более того, очевидно, что главный
мобилизующий фактор этой пропаганды – это ущемленное имперское чувство,
комплекс «нашей неосвобожденной территории» и внешняя агрессия как компенсатор
чувства национальной неполноценности.
Если говорить о
перспективах режима, то мне кажется, что ключевым фактором является то, что это
все же абсолютно персоналистский режим. Даже если за фигурой Путина стоит некий
«коллектив трудящихся», для публики режим персонализирован в фигуре Путина. Это
режим Путина. И в этом его главная слабость: его устойчивость зависит от
главного фактора – от психологического и физического самочувствия диктатора. На
мой взгляд, Путин так все это простроил, что судьба системы неразрывно связана
с его личной судьбой. И самый вероятный исход для такой системы власти – это
обрушение.
Вариант
постепенного размягчения, постепенной демократизации, как в Испании или
Бразилии, возможен только при наличии массового демократического движения в
стране, включающего социальные требования большинства. Будет это – будут
диссиденты внутри режима. Они появятся и двинутся навстречу, условно говоря,
внесистемным политическим силам, демократической оппозиции только тогда, когда
будет внешнее по отношению к режиму давление, давление со стороны общества.
Иначе не бывает. Такая модель – это желаемый выход. А ожидаемый исход
определяется уровнем персонализации режима. Здесь наиболее вероятный сценарий –
это крах, очень тяжелый для страны кризис.
Эмиль Паин:
Не так давно я опубликовал статью,
которая называется «Магия тоталитаризма». Из названия видно, что я определяю
нынешний политический режим в России как тоталитарный. Правда, тогда я писал,
что это недоразвитый тоталитаризм, а сейчас я отказываюсь от этого уточнения,
потому что периода развитости у такого режима вообще не бывает.
Нет необходимости подробно объяснять,
чем нынешний режим, режим второй декады XXI века, отличается от режима 2000-х
гг. Но я остановлюсь на одном элементе, который объясняет, почему мы с Л.
Гудковым возвращаемся сегодня к теории тоталитаризма. Главное отличие нынешней
модификации режима от предыдущей состоит в том, что он стал мобилизационным.
Прежний режим ни в какой мобилизации населения для самосохранения не нуждался;
напротив, это был режим демобилизации. Раз в четыре года избиратель приглашался
совершить обряд выборов, а потом все – спите спокойно, вы не нужны. Никакого
взбадривания, никакой мобилизации в поддержку режима не было нужно.
Так что же такое мобилизация? На мой
взгляд, это всякая внешняя принудительная активизация населения, форсированное
изменение его поведения. При этом даже не важно на сколько успешна эта
активизация. Если мобилизованный в армию человек «косит от службы», скажем в
лазарете, сам факт мобилизации — т.е. принудительного изменения его поведения и
образа жизни не отменяется.
Тоталитаризм характеризуется опорой на
мобилизацию. Это режим, отключенный от традиционных механизмов легитимации,
испытывающий некий дефицит легитимации и требующий мобилизации для восполнения
этого недостатка. М. Трудолюбов сомневается, что хватит ресурсов провести такую
мобилизацию, чтобы была коллективизация и т.д. Но совсем необязательно, чтобы
мобилизация охватывала экономическую сферу. Достаточно других форм мобилизации,
которые обеспечивают самосохранение режима.
Я отреагирую на замечание по поводу
ревизии существующих теорий тоталитаризма. На мой взгляд, эта ревизия
неизбежна, более того, она перманентно происходит.
Теория тоталитаризма пока не
разработана, существуют лишь разнородные концепции этого явления, имеющие
множество недостатков. Назову лишь два из них. Во-первых, все эти концепции
носят описательный характер, они были созданы для обобщения существовавших
эмпирических фактов, и плохо приспособлены для прогнозирования. Во-вторых, они
односторонне и узко трактовали даже имеющийся эмпирический материал, связывая
тоталитаризм только с репрессиями. В самой популярной и авторитетной из таких
концепций, изложенной Ханной Арендт в ее книге
«Истоки тоталитаризма» (1951 г.) основное внимание
уделено репрессивному государству и беспрецедентному насилию, связанному с Холокостом и ГУЛАГом. Х. Аренд даже
итальянский фашизм не относила к тоталитаризму, в силу его недостаточной
репрессивности, хотя сам термин «тоталитаризм» появился в 1920-х гг. как раз для характеристики именно
режима Бенито Муссолини. Так что уже
сама Х. Арендт была ревизионисткой концепции тоталитаризма.
Важные «ревизионистские» уточнения в эту
концепцию внес Хуан Линц. В эссе «Тоталитарные и авторитарные режимы» (1975) он
утверждал, что главной чертой тоталитаризма является не террор сам по себе, а
стремление государства к тотальному надзору за всеми аспектами жизни людей. Эмпирический
материал, которым располагал Х. Линц, показывал, что осуществлять такой
контроль, который гарантировано не допускает открытого инакомыслия и возникновения
оппозиции, невозможно без широкомасштабного террора. Прошло время, и опыт ряда
стран, в том числе и России, дал примеры эффективного подавления оппозиции и
обеспечения тотального и сервильного единомыслия без применения массовых
репрессий, всего лишь за счет новых информационных технологий, новых форм манипуляции
массовым сознанием.
Впрочем, и во времена существования
классических тоталитарных режимов в 1920 – 1950-е гг. правление несменяемых в
течении десятилетий диктаторов-вождей было обусловлено не только репрессиями.
Как справедливо отмечает Тьерри Вольтон, «Муссолини долго был героем для
большинства итальянцев, Гитлеру удалось вовлечь немцев в войну, миллионы
советских людей оплакивали смерть Сталина, а многие китайцы до сих пор скорбят
по Мао. «Культ вождя», граничащий с
обожествлением опирался, прежде всего, на психологические процедуры
принуждения, на «магию тоталитаризма».
Помимо «культа вождя», важнейшую роль в
идеологии и практике тоталитаризма играют массовые надежды, обожествление некой
политической утопии «всемирного рейха», «всемирного халифата», «всемирного
союза пролетариев-коммунистов», «русского мира». Во всех случаях
атомизированный, неустроенный человек, проигравший социальное соревнование,
окрыляется связью с великим вождем и великой идеей, получая возможность чувствовать
себя уверенней в качестве части некого великого сообщества: «белой расы»,
«исламской уммы», мирового пролетариата» и др.
В чем новизна нынешнего тоталитаризма по
сравнению с тоталитаризмами 20 века? Все они были прогрессистскими. Они
подразумевали проект создания нового человека и нового общества. Нынешние
тоталитаризмы, не только российский, но и, скажем, исламский, игиловский
ориентируются не на прогрессизм, а, наоборот, на традиционализм. Это совершенно
новое явление, инновация, которая сохраняет форму традиции.
Мы не замечаем тотальности этого
процесса, который не сводится только к телевидению. Сегодня существует
полноценная система манипуляции, начиная с детского сада, школы и кончая
паломническими движениями, которая создает механизм рекрутирования огромного
количества людей. Я недавно приехал из Новгородской области и видел, как в монастырь
Дивеево приезжают тысячи людей (мне сказали — 12 тысяч человек ежедневно). Это
только одно «святое место» в одной российской области. По России же сотни тысяч
людей ежедневно вовлечены в такую форму освоения идей «русского мира». В стране
выстроена разветвленная система институтов, которая обеспечивает воспитание
масс в этой парадигме.
Еще одно свойство тоталитарного режима состоит
в том, что он исторически неустойчивый, исторически сравнительно недолговечный.
Время советской власти довольно незначительно по сравнению с многовековыми
монархиями. Думаю, что сегодняшнему тоталитаризму не будет ни 70 лет, ни даже
25 лет. Потому что основная проблема – это проблема сокращения его ресурсов,
рост интенсивности борьбы «пауков в банке». Сегодня элитные противоречия и
различия будут довольно значительными и предел насыщения этой части значительно
быстрее, чем остальных.
Но главное, что меня беспокоит в этом
разговоре, это недооценка роли тоталитарной идеология. Я же хочу подчеркнуть
еще раз, что складывающаяся система идеологического воспитания уже сейчас – это
практически тотальная, широкая и разветвленная система. Она дает сбои, но все
же она пока рекрутирует массу сторонников. Не хотите называть это идеологией,
назовите каким-то другим словом. Но учитывайте этот мощный фактор, который
серьезнейшим образом будет способствовать самосохранению режима даже в
неблагоприятных экономических условиях. Не хотите давать режиму «страшные»
определения, ну так придумывайте некие местные обезболивающие названия, но
тогда вы не сможете включить свои локальные оценки в мировой теоретический
массив, не получится и типология этого явления.
Игорь Клямкин:
На мой взгляд, использование понятия
«тоталитаризм» для описания современных российских реалий означало бы ревизию
той теории тоталитаризма, которую имеем, и которая описывает режимы ХХ века.
Может быть, понятие это и нуждается в переосмыслении, но пока его использование
применительно к сегодняшней российской ситуации кажется неубедительным.
Действительно, тоталитарные режимы прошлого века были модернизаторскими,
соответствующими индустриальной стадии технико-экономического развития. Это
были режимы, у которых была осознанная и мобилизующая историческая функция. А
нынешняя мобилизация, о которой говорил Эмиль Паин, — это и не мобилизация
вовсе, в ней не просматривается никакого мобилизующего коллективного
целеполагания. Да, есть солидарная поддержка политики властей, но это
солидарность демобилизованных. В значительной степени она создана искусственно,
хотя и опирается на определенные структуры массового сознания.
Что это за режим? Я думаю, что можно
оставаться в границах понятия авторитаризма, отдавая себе отчет в его
недостаточности. Это не просто авторитарный режим, а режим постимперский,
сохраняющий имперские черты. И что особенно существенно, это авторитаризм
пост-тоталитарный. Это формирует те его особенности, которые мы в Латинской
Америке не обнаруживаем, а именно – апелляции к исторической памяти об
имперском досоветском и советском прошлом в сочетании с реанимацией
тоталитарной символики сталинского периода. Это режим постмодернистского
цитирования прошлых феноменов вкупе с феноменами западных демократий, но это не
авторитарная (и не тоталитарная) диктатура развития, а постмодернистская
диктатура самовыживания.
Характер эволюции режима в последнее
время определялся тем, что с 2012
г. для его легитимации начали использоваться элементы,
похожие на идеологию. Но это не доктринально оформленная государственная
идеология, а некий набор предписываемых ценностей. Официальная идея
«альтернативной цивилизации», государственный патриотизм, православная риторика
стали реакцией на внутренние события – на выборы 2011 г. и Болотную площадь.
Массовое сознание этот поворот приняло, но глубоко в себя не впустило. Оно
внутренне прониклось им только в 2014-м, когда память об имперском прошлом была
актуализирована и материализована «возвращением» Крыма, и когда внутренний
политический вызов был переформулирован как вызов внешний, когда стал
насаждаться образ американского
«большого врага».
Однако, повторю, я не вижу здесь
перехода к мобилизационному обществу. Люди прониклись «крымнашизмом», но
продолжают жить частной жизнью и на патриотические митинги не рвутся. Более
того – хотят, чтобы им за посещение этих митингов еще и заплатили или дали
отгул. Тоталитарную инерцию в «крымнашистской» солидарности демобилизованных
обнаружить при желании можно, но – не более того. Это солидарность без образа
будущего и без солидарного отклика на идущие сверху целеполагания уже в силу
самого отсутствия таковых.
Перспективы такого режима, на мой
взгляд, надо анализировать не только исходя из внутренних факторов, но и в
связи с тем внешним контекстом, в котором он существует. Он не изолирован, он
находится в принципиально новой ситуации внешней войны на трех фронтах –
украинском, сирийском и западном
(торгово-экономическом). И главный вопрос – выдержит ли режим давление
созданной им самим внешнеполитической ситуации? В случае ее затягивания
выдержать это давление можно будет только посредством ужесточения внутри страны
(социально-экономического, а быть может, и политического) с неопределенными
перспективами. Но перспективы тоталитарной мобилизации я и в данном случае не
вижу.
А если не выдержит, то это будет
сопровождаться падением легитимности. В чем оно может проявиться? Серьезного
давления снизу я не жду. А в верхах может возникнуть настрой на некоторое
видоизменение режима в направлении его большей приемлемости для Запада, но при
сохранении его авторитарности. На серьезную демократизацию после пугающего
опыта Горбачева вряд ли кто решится.
Екатерина
Шульман,
Одна из особенностей нынешнего российского
режима в том, что он действует в значительной степени в информационном
пространстве. Его базовое отличие как от тоталитаризма, так и от классического
авторитаризма ХХ века выражается формулой, согласно которой диктатуры прошлого
состояли на 80% из насилия и на 20% из пропаганды, а нынешние гибриды — на 80%
из пропаганды и на 20% из насилия. В результате, режим формирует пространство
фейка, целенаправленного искажения действительности, в котором во многом и
существует.
Вопрос «верят ли они сами в то, что
говорят?» здесь не имеет смысла. В условиях неидеологизированного
режима-гибрида «говорить» властные и провластные акторы могут, что
угодно. Однако в своих действиях они мотивированы не «убеждениями» и
«верой», а возможностями системы и ресурсами режима. И то, и другое
неумолимо сокращается.
Для «нас» слова связаны с убеждениями, а
убеждения — с действиями. Для «них» эта связь носит очень условный характер.
Новая информационная туманность — это не доброе старое: «говорит одно, а
сам задумал другое». Мы рассуждаем: «если они ГОВОРЯТ о возможности
ядерной войны (тема и лексика, табуированная при советской власти), то что же
они тогда способны СДЕЛАТЬ? самое меньшее — взять Мариуполь». В реальности
оказывается, что болтовня про радиоактивную пыль никак не коррелирует с
реальными действиями, а является просто болтовней, имеющей целью напугать
внешнюю аудиторию, а если это не выйдет — то хотя бы занять телеэфир чем-то,
что будут с интересом слушать. Свет на эту разновидность дискурса и модель
публичного поведения способна пролить не столько политическая наука, сколько
криминология и вирусный маркетинг: смесь уголовных нравов и опыта дикого
«пиара» 1990х многое объясняет в нынешнем информационном
пространстве.
Каковы могут быть «дела» нашей
властной системы? Чтобы ответить на вопрос о ее возможностях, нужно попытаться
понять ее природу. По моему мнению, действующий политический режим не
является ни тоталитарным, ни в полной мере авторитарным, ни персоналистическим
(вождистским), ни идеологическим — хотя пользуется элементами всех этих
моделей.
Тоталитарная модель притягивает
исследователя своим масштабом и исходящим от нее хтоническим ужасом, но с точки
зрения исторической это модель экзотическая. Тоталитарных режимов было не так
много, все они концентрировались на сравнительно небольшом историческом участке
ХХ века, и почти все, оставив по себе ужасный след, развалились (сохранившиеся
исключения подтверждают правило). Уже СССР на послевоенном этапе проявлял черты
гибридности (трансформации в сторону смешанного авторитаризма), а для его
возрождения даже в таком смягченном виде необходимы ресурсы — экономические,
демографические, идеологические, — которыми нынешний режим не
располагает.
Авторитарная модель более совместима с
человеческой природой и, соответственно, живуча. Но опыт последних 30 лет
показывает, что для выживания авторитарные режимы вынуждены имитировать целый
ряд демократических институтов. В данный момент в мире больше многопартийных,
чем однопартийных автократий; почти все режимы такого рода проводят регулярные
выборы и допускают существование негосударственных общественных организаций,
плюралистической прессы и сетевых ресурсов.
Будучи имплантированы в социальную
ткань, эти институты, которые режим частью имитирует, частью контролирует,
постепенно наливаются живым социальным содержанием. Скорость и сила этого
процесса преимущественно определяется уровнем развития общества (хотя есть и
другие факторы — экономическое положение, интегрированность в международные
торговые финансовые и политические структуры — «linkage», наличие и
статус преимущественного торгового партнера — «leverage»).
В исторической перспективе у российского
политического режима нет иного пути, кроме постепенной демократизации. Не
потому, что это «хорошо и правильно», а потому, что этого требует
противоречие между уровнем развития общества и его требованиями и уровнем
развития аппарата управления и его потребностями.
Однако эта историческая перспектива
носит стратегический характер, и путь к ней не выглядит линейно. Ближайшее
будущее будет определяться другим противоречием: между сжимающимися
экономическими ресурсами и потребностями бюрократии, разросшейся количественно
и привыкшей к определенному уровню потребления.
Еще сужая фокус, скажем, что ситуация в
России следующие три года будет определяться кумулятивными усилиями
«коллективного Запада» по превращению российского политического
лидера из ресурса в обузу для российской же коллективной бюрократии (не
народа). Цель — донести до властвующего класса мысль, что смена лидера
(желательно мирная, в результате внутриэлитного соглашения) отвечает их общим
интересам и сделает их жизнь легче и качественнее. Если эта цель будет
достигнута, на выборах 2018 г.
Владимир Путин баллотироваться не будет, а будет избрана компромиссная фигура,
приемлемая для властной бюрократии тем, что это кто-то из них, а для внешних
партнеров — уже тем, что это не Путин. Это скромная цель, не предполагающая ни
революций, ни радикальных мутаций режима, но облегчающая его дальнейшую
трансформацию по тому пути, на котором он и так уже находится.
В ответ на то, что режимом
воспринимается как «внешнее давление», им будет усиливаться давление
внутреннее. Коллективная бюрократия всегда делает не то, что требуется, а то,
что может: в любой ситуации она может оперировать только теми инструментами,
которыми располагает.
Что же она может, и что мы в ближайшее
время увидим:
1. Не вести войну, но увеличивать
бюджетные расходы. Скудеющий бюджет будет все решительнее перераспределяться в
пользу силовой бюрократии. Но это может прикрывать политику ровно
противоположного характера: постепенное сворачивание всякой военной активности
на украинском направлении.
2. Не вести изоляционистскую политику,
но усиливать изоляционистскую риторику. Антизападная и в особенности
антиамериканская пропаганда будет нарастать по тону и объему, но реальные
политические шаги могут делаться в противоположном направлении.
3. Не выстраивать репрессивный аппарат,
а проводить точечные репрессии. Они будут направлены на публично-политическую,
гражданскую и гуманитарную сферу. Это те области, где у государства есть власть
и ресурсы, и где низка вероятность организованного сопротивления. При этом
подобные репрессии, при небольших затратах, вызывают огромный резонанс и служат
цели режима: минимальной ценой произвести парализующее впечатление
«тоталитарности».
4. У системы все меньше средств
поддерживать дисциплину бюрократии, в особенности силовой. Хотя она до
последнего будет прилагать максимум усилий, чем дальше, тем больше она будет
вынуждена отпускать отдельные отряды этой бюрократии «на вольные хлеба».
В этих условиях реальной перспективой для нас является не «раскручивание
маховика репрессий», а рост дезорганизованного полулегального насилия со
стороны тех, кого еще Белинский определил как «корпорацию служебных воров
и грабителей». Ведомственные и бюрократические кланы будут все громче
заявлять себя в публичном пространстве, внутриэлитные конфликты будут выносится
на публику.
В этих условиях интересной формой борьбы
государства и общества может стать «легалистский протест», образец
которого мы видели в конце 2011 года и видим каждый день, когда общество
вступается за ту или иную жертву правоохрантельного и судебного произвола. Это
протест под лозунгом «соблюдайте свои законы», в котором общество
парадоксальным образом выступает в роли правоохранителя, а государство —
правонарушителя. Ближайшая точка турбулентности, которую нам предстоит пройти,
— последствия выборов 2016 г.
В авторитарном режиме российского типа результат выборов всегда предсказуем, но
непредсказуемы его последствия (в демократии — наоборот).
Евгений Ясин:
Мои взгляды близки к тому, что говорил
И. М. Клямкин: мы все-таки имеем не тоталитаризм, а авторитаризм. Я пытался в
свое время провести грань между авторитаризмом и «дефектной демократией» (этот
термин ввели В.Меркель и А. Круассан[‡]).
Мне показалось, что у нас дела обстоят похоже. Кроме того, я всегда
руководствуюсь мыслью о том, что мы должны искать возможности к движению в
сторону демократического образа правления. Если мы не оставляем возможности для
того, чтобы договорится, а просто клеймим, то от этого получается обратный
эффект. Но те события, которые произошли в 2014 г. в связи с Крымом и
Донбассом, они что-то поменяли. И сегодня есть какие-то вполне важные черты,
которые указывают, что режиму не чуждо использование элементов тоталитаризма. В
особенности, это касается СМИ.
Мы видим последствия того
обстоятельства, что Россия перестала в конце 20 века быть сверхдержавой,
потеряла большую долю величия, которое заменяло населению какую-то группу
престижных товаров. И мы видим, что этот механизм сработал, и он работает и
против либералов, против людей, которые составляют оппозицию разного уровня. Я
бы не сказал, что речь идет о какой-то целостной идеологии. Мне кажется, что
есть вещи, на которые Владимир Владимирович Путин органически не способен. Он
не понимает, что такое идеология, и он ее боится. Он старается держать общество
в наведенье. Что бы вы его ни спрашивали, различные идеологические посылы – все
это можно отнести на кого-то: на Дугина, на Рогозина, на Ясина. Но он сам старается
так определенно не высказывается, кроме вещей, которые он хорошо понимает, где
может проявить свой темперамент. Например, по поводу американцев.
Мне кажется, что каждый шаг, который
сейчас совершает режим для своей защиты, продавая вот эту низкопробную
идеологическую пищу, которая годится для самых малообразованных слоев, — каждый
шаг разрушает имидж режима.
Чем это закончится? Как экономист, я
вижу, что мы имеем дело с началом кризиса, который может быть преодолен только
сменой режима. Я думаю, что изменить экономическую ситуацию иначе не удастся. И
это очень сильно расходится с намерением Путина сидеть столько, сколько можно,
идти на любые меры ради этого.
Тот режим, который был формировался с 2003 г. рассчитан на то, что
цены на нефть будут расти. И то, что у него нет внутренних сил для роста, было
ясно еще в 2003 году. Экономическая ситуация будет ухудшаться, и возможно,
экономика и будет играть решающую или крайне важную роль. Не в том смысле, что
поднимутся люди и будут бунтовать, нет; но те реакции, на которые рассчитывает
режим, перестанут действовать. Как на это будет реагировать режим, не знаю.
Следует принять во внимание очень существенную роль, которую играют сегодня
спецслужбы. И это их поведение выглядит нарушением определенных правил внутри
режима. Последние громкие конфликты — вокруг Меламеда, вокруг меня и фонда
«Династия» произошли, видимо, по чьей-то инициативе без прямого указания
Путина.
Лев Гудков:
Я бы хотел добавить одну реплику в
заключение. Мне показалось, что под тоталитаризмом в нашей дискуссии понимается
нечто статическое или догматическое. Но это — научная парадигма, которая
развивалась как всякая научная парадигма. В первой фазе это было описанием еще
складывавшихся на тот момент режимов, в классической фазе – это описание трех
основных функционировавших форм тоталитаризма. Затем появилось огромное
количество концепций тоталитаризма, описывающих его неполные и разлагающиеся
формы (кубинского, исламского и т.д.). Тоталитаризм как завершение научной
парадигмы есть язык теоретического анализа и описания, который сам по себе
направляет внимание исследователя на определенные общие черты и различия.
Никакой единой конструкции тоталитаризма нет, и историки показали, что ни одна
из реальных систем, квалифицируемых в качестве «тоталитарного режима», не
соответствует этому типу в полной мере.
В отличие от понятия «авторитаризм»,
который описывает лишь систему господства, концепция тоталитаризма гораздо
более широкая, и она обращает внимание на изменения в разных институциональных
сферах. Она заставляет сравнивать одномоментные изменения в таких сферах как
изменение права, подчинение его определенной политике, системы образования и
социализации.
«Идеология» также вовсе не сводится к
утверждению монолитного представления о социально-политической реальности или о
будущем. Это не «политическая религия» в духе Е.Джентиле[§],
это достижение принудительного консенсуса, заглушающего все остальные взгляды и
мнения, разрушающего возможности других подходов или точек зрения. Это
навязанный консенсус, и в реальности нигде – ни на Кубе, ни при Муссолини
никогда не было такого реального единомыслия. Но консенсус, достигаемый
принуждением, информационной изоляцией, воспитанием конформизма складывался.
Совершенно необязательно в идеологические постулаты верить, главное здесь –
повиновение, добровольный конформизм или принудительное двоемыслие.
При таком понимании парадигмы
тоталитаризма мы видим множество пересечений с той реальностью, которую мы
обсуждаем. Я говорю о рецидиве тоталитаризма, потому что отдельные феномены
необязательно должны сложиться в какую-то законченную, жесткую террористическую
систему, но рецидивные явления, вроде повторного гриппа, совершенно точно мы
наблюдаем. Давайте посмотрим на то, как создаются условия для дальнейшего
воспроизводства и закрепления определенных отношений, когда это переносится в
сферу образования, допустим, и начинается готовиться целое поколение.
Параллельно идут изменения в судопроизводстве, армии и т.д. Мы можем говорить о
некоем складывающемся направленном движении, о том, что планируется другая фаза
развития режима. Такие практики для авторитарных режимов не характерны.
Авторитарный режим не озабочен этим, он апеллирует к традиции, к тому, что
всегда было, к укладу.
Кирилл Рогов:
Мне кажется, состоявшаяся полемика и
сформулированные несогласия делают более объемным наш взгляд на тот
исторический феномен, который формируется или развивается на наших глазах.
Упрощенно говоря, одна точка зрения
рассматривает режим в перспективе его прагматики, прагматики его лидеров. В
этом случае контр-модернизационный, архаизирующий пафос режима выглядит как
инструментарий, фейк, фиговый листок. Другой подход, напротив, обращает наше
внимание на то, что этот контр-модернизацинный посыл оказывается организующей,
мобилизующей силой, выстраивающей и формирующей институциональную среду. В
этой, второй перспективе он и есть новое существо режима, в то время как все
прочее – технологичность, меркантилизм, цинизм, информационный пост-модернизм –
являются инструментарием, оболочкой.
Многие из тех, кто возражал против
применимости тоталитарной парадигмы, вынуждены были признавать все же некоторые
пересечения, указывая при этом на их периферийный характер. Мне кажется,
ключевой признак был сформулирован совершенно точно: это уровень мобилизации
или мобилизационности режима. Авторитарные режимы борются с проявлениями
несогласия, протеста, попыток политического действия, то есть – с деятельной
неояльностью. Мобилизация же предполагает вмененность гражданам поддержки
режима и осуждение ее отсутствия. Отсутствие поддержки приравнивается к
потенциальному предательству и может в той или иной форме караться, пускай даже
в форме общественного осуждения.
Может быть, вот это понятие авторитарной
мобилизации как отличительного признака и некоего нового качества
авторитаризма, сближающего его с представлением о тоталитарном обществе, могло
бы быть точкой терминологического компромисса.
В свою очередь такая мобилизация
непосредственно связана с качественно новой ролью, которую получает в
политической системе репрессивный аппарат. Она по-новому отстраивает институты
и ведет к ре-интерпретации ценностей. Так, например, свобода слова для
российских граждан, судя по опросам, является (являлась еще совсем недавно)
достаточно консенсусной ценностью. Однако в условиях мобилизации это общее
представление оказывается поставленным под сомнение. В условиях общей опасности
ценностью может выглядеть уже ограничение свободы слова, в то время как свобода
будет интерпретироваться как источник угрозы. Это важный сдвиг. Здесь мы видим
уже конструирование системы «мобилизационных ценностей». Но именно с помощью
таких мобилизационных ценностей классические тоталитаризмы сдвигали и подрывали
гуманистическую концепцию, воспитывали высочайшую толерантность к насилию.
«Распятый мальчик» — циничный пропагандистский фейк, но он воспитывает новую
норму: «убей укропа» — вне зависимости от интенций авторов фейка.
Обращаю внимание, что несогласие
наблюдалось еще по одному важному пункту. В вопросе о том, является ли нынешний
российский режим персоналистским, мы видим ту же развилку аргументаций. Часть
участников высказывала мнение, что персоналистский характер режима является
оболочкой, символическим брендом, за которым скрываются те или иные композиции
бюрократии и олигархии. Другие указывали на персоналистский характер как на
самое существо режима, определяющее траекторию его эволюции.
Действительно, обращаясь к уже почти
классической типологии Барбары Геддес, мы оказываемся в некотором
замешательстве. Персоналистский субстрат режима очевиден. Однако и механизмы
политического управления, характерные для латиноамерианских хунт ему также,
кажется, не чужды. Я имею в виду ту роль, которую играет в этом режиме
«секретная служба» (КГБ – ФСБ) и корпоративные связи ввыходцев из нее.
Функционально ее роль вполне сопоставима с ролью армии и армейского офицерства
в латиноамериканских хунтах. Наконец, вполне очевидны и усилия по построению
режима доминирующей партии. Отличие, пожалуй, заключается в том, что партийный
режим преимущественно приспособлен для управления территориями. Однако наличие
трех разных механизмов – персоналистского, военно-корпоративистского и
партийного, — каждый из которых выполняет определенную роль в общей композиции,
мне кажется, было бы важно отметить и осмыслить.
Не думаю, что нашей целью является дать
однозначный и окончательный ответ на эти вопросы – тоталитаризм или
авторитаризм, персоналистский режим или хунта? Прозвучавшие аргументы и
контр-аргументы позволяют увидеть новации формирующегося режима. Новации в
способах легитимации, а также в подходе к проблеме элитных коалиций и
механизмов лояльности. Эти новации и особенности, вероятно, определят его
будущее. При этом вопрос мне кажется важным подчеркнуть, что режим находится в
движении. Это какой-то режим со смещенным центром тяжести. И мы видим,
вероятно, еще только промежуточную стадию.
[*]Autocratic Regimes Data:http://sites.psu.edu/dictators/
[†]North D. C. Limited access orders in the developing
world: A new approach to the problems of development. – World Bank Publications,
2007. – Т. 4359.
[‡]МеркельВ., КруассанА. Формальныеинеформальныеинститутывдефектныхдемократиях (I) // Полис. 2002.
№1.
[§]Gentile E.Le religioni della politica. Fra democrazie e totalitarismi. Laterza, Rome 2001 = English translation: Gentile
E.Politics as Religion. PrincetonUniversity
Press. 2006.