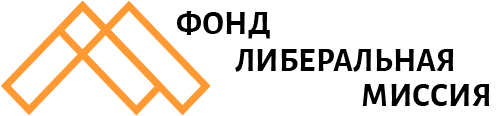Реформы эпохи Ясина: упущенные возможности и новые шансы
Евгений ЯСИН (научный руководитель НИУ ВШЭ,
президент Фонда «Либеральная миссия»):
Я отмечу для
начала, что тема дискуссии
представляется мне исключительно важной и актуальной. Многие мои мысли и
соображения, касающиеся истории и уроков экономических преобразований, изложены
в книге, которую подготовил Андрей Колесников. Он сам скажет об этом подробнее.
Андрей КОЛЕСНИКОВ (журналист,
автор книги «Диалоги с Евгением Ясиным»):
«Чем дольше тянули с
экономическими реформами, тем выше становилась их цена, тем в большей степени
шоковыми они должны были оказаться»
Книга,
которая стала отправной точкой для сегодняшнего разговора, – «Диалоги с
Евгением Ясиным», – увидела свет год назад, к 80-летию Евгения Григорьевича.
Но, разумеется, она ничуть не утратила актуальности. К сожалению, системных
работ по истории российских реформ не существует, хотя есть разрозненные
свидетельства и книги, написанные, например, Андерсом Ослундом, конечно же, –
Егором Гайдаром и т.д. И, как мне представляется, «Диалоги с Евгением Ясиным»
вносят свой вклад в изучение истории реформ, их идейной подготовки.
А
поговорить я бы хотел о некоторых имманентно присущих всем российским реформам
(не только перестройке и либеральной трансформации 1990-х годов) общих чертах.
На мой
взгляд, любой из реформаторских этапов российской истории отличают несколько
неизменяемых элементов:
1. одинаковые причины и триггеры перемен;
2. верхушечный характер преобразований, в
ряде случаев – в соответствии с запросом «снизу»;
3. ограничители преобразований, включая
сопротивление им;
4. и, наконец, незавершенность реформ,
провоцирующая всё новые и новые попытки догоняющего развития России.
Очень
важный момент: на определенном этапе развития либо, наоборот, стагнации или
движения страны вспять реформы оказываются НЕИЗБЕЖНЫМИ.
ТРИГГЕР
реформ всегда один и тот же – доведение «до ручки» ситуации в стране, когда
элите, чтобы сохраниться, надо уже начинать что-то делать. В то же самое время
в обществе зреет запрос на перемены. В какой-то точке это движение «верхов» и
«низов» соединяется – начинается реформа.
Никколо
Макиавелли писал в «Истории Флоренции»: «…Новый порядок порождается
беспорядком, порядок рождает доблесть, а от нее проистекают слава и
благоденствие… Когда предел бедствий достигнут, вразумленные им люди
возвращаются к… порядку». Порядок к этой логике (правильной) – не дореформенное
состояния, а постреформенное.
Или вот
симптоматичный фрагмент письма Сперанского из Перми к Александру (1813 г.):
«Царства
земные имеют свои эпохи величия и упадка, и в каждой эпохе образ правления
должен быть соразмерен той степени гражданского образования, на коем стоит
государство. Каждый раз, когда образ правления отстает или предваряет сию
степень, он ниспровергается с большим или меньшим потрясением.
Сим
вообще изъясняются политические превращения, кои в древние времена и в дни наши
предлагали и изменяли порядок правлений… благовременность начинаний».
Ответственная
элита начинает реформы и привлекает для этого контрэлиту, безответственная –
закручивает гайки.
Михаил
Горбачев выбрал первый путь. Если бы он не начал перестройку, Советский Союз
развалился бы еще до 1991 года. Просто сгнил бы биологически.
ОГРАНИЧЕНИЯ
реформ – политические, идеологические и аппаратные – непременные спутники
российских преобразований. В перестройку этими ограничениями, флажками, за
которые боялись выйти, стали границы социалистического выбора. Во времена
Александра I и Михаила Сперанского такими
ограничителями были крепостничество и абсолютная власть монарха. Во времена
Александра II – абсолютная власть монарха уже
без крепостного права.
Кроме
того, не стоит сбрасывать со счетов такой объективный фактор как СОПРОТИВЛЕНИЕ
реформам. Горбачеву противостоял тот тип стратегического мышления, который
возобладал в ходе третьего срока Владимира Путина. Это тип мышления, который и
привел СССР к состоянию, когда перестройку уже нельзя было не начинать. Он
описывается формулой «Не надо ничего трогать». Этот принцип не чисто
брежневский, хотя Леонид Брежнев, согласно многочисленным мемуарным
свидетельствам, после 1968 года был его адептом. Император Австрии Франц I всячески препятствовал индустриализации страны:
предвосхищая Маркса, он видел в рабочих носителей революции/«оранжевой заразы».
Когда перед императором положили план строительства железной дороги, он прямо
сказал, что это приведет к революции. Сила перемен и инноваций всегда страшила
правителей: в ней они видели пророщенные зерна возможной демократизации и
угрозу своей власти.
Все это
описано еще Сперанским в 1809 году: «Какое, впрочем, противоречие: желать наук,
коммерции и промышленности и не допускать самых естественных их последствий,
желать, чтобы разум был свободен, а воля в цепях … чтобы народ обогащался и не
пользовался бы лучшими плодами своего обогащения – свободою».
Любая
русская реформа могла быть описана поговоркой: «И хочется, и колется». Отсюда
еще один элемент «эффекта колеи» в способе проведения реформ – их
НЕЗАВЕРШЕННОСТЬ.
Чем
дольше тянули с экономическими реформами после провалившейся попытки 1965–1968
годов, тем выше с каждым годом становилась цена возможных преобразований, тем в
большей степени шоковыми они должны были оказаться. Чем дольше тянули с
политическими реформами после попыток Хрущева в 1962–1964 годах подготовить
проект новой Конституции СССР, тем более мощным оказался потом взрыв массового
недовольства властью.
Так что
«страну потеряли» не из-за Горбачева, а из-за Сталина и Брежнева. А кто-то ее
вовсе даже и не потерял, а обрел. Но и перестройка, при всей ее глубине и
революционности, оказалась не до конца завершенной попыткой преобразований.
Хотя в том, что касалось демократизации и раскрепощения сознания, она оказалась
беспрецедентным процессом. Экономические реформы не были завершены до конца, чему
помешали, в частности, границы «социалистического рынка». Слишком поздно,
несмотря на опыт косыгинских реформ и опыт преобразований в ряде стран
коммунистического блока, стала очевидна дихотомия: либо социализм, либо рынок.
Из
вечной незавершенности реформ вытекает эта российская обреченность на
ДОГОНЯЮЩЕЕ развитие и в ряде случаев, в терминах Юргена Хабермаса, на
«догоняющие революции», или «революции обратной перемотки», которые
«наверстывают упущенное». Пример «догоняющей революции» – протесты 2011–2012
годов, когда наиболее продвинутые слои образованного городского среднего класса
предъявили спрос на политические преобразования, поскольку именно архаичная
элита и недореформированное государство сдерживали нормальное,
общецивилизационное развитие России.
В целом
эту внутренне противоречивую логику и логистику преобразований хорошо описал
демограф Анатолий Вишневский в работе «Серп и рубль»: «Какую бы составную часть
осуществленных перемен мы ни взяли, в каждом случае после короткого периода
успехов модернизационные инструментальные цели вступали в непреодолимое
противоречие с консервативными социальными средствами, дальнейшие прогрессивные
изменения оказывались блокированными, модернизация оставалась незавершенной,
заходила в тупик. В конечном счете, это привело к кризису системы и потребовало
ее полного реформирования».
Остается
надеяться на то, что следующая реформа, когда она все-таки начнется, избежит
всех этих пороков предыдущих попыток реформирования государства и общества.
Я вижу,
что Евгений Григорьевич хочет что-то добавить.
Евгений ЯСИН:
«Время, которое
прошло без назревших реформ, можно считать упущенным»
Без реформ жить
невозможно. Если вы не делаете реформы, значит, вы их ждете. Если они не
произошли, вы проклинаете время, которое прошло без реформ. Сегодня фигурируют другие
названия реформ, типа «институциональные изменения» и что-то еще, но это не
меняет сути дела. Я считаю, что Россия вступила в полосу преобразований в 1861
году, с момента крестьянской реформы Александра Второго. Затем предпринимались
другие шаги, за ними следовали откаты назад, и так повторялось многократно.
Сегодня заседал
совет Внешэкономбанка, и там Наталья Васильевна Зубаревич выступала с
прекрасным докладом по исключительно острому вопросу. Я бы обозначил его тему
как «Регионы России и нужда в реформах». Все это подтверждает актуальность
нашей дискуссии.
Думаю,
сегодняшний разговор только начало. И, как пожилой оптимист, я надеюсь, что смогу
наблюдать усиление сил, которые будут толкать Россию к новым реформам. Каким? Об
этом, думаю, речь впереди. Спасибо, извините. Передаю управление ведущему.
Олег ЗАМУЛИН (декан экономического факультета НИУ
ВШЭ):
«Я опасаюсь, что как только очередные реформы
действительно начнутся, сразу начнется и сопротивление им, а в результате они
опять не будут доведены до конца и окажутся исковерканными по сути»
Добрый вечер,
дорогие коллеги! Меня назначили ведущим примерно за 30 секунд до начала
сегодняшнего Круглого стола, поэтому я еще не могу сказать, что свыкся с этой
ролью. Cделаю одну ремарку в качестве вступления.
Знаете, когда я
думаю о реформах, то меня каждый раз одновременно пугают какой-то детерминизм и
безысходность. Как будто реформы –
это
процесс, который в очень малой степени находится под нашим контролем. С одной
стороны, я понимаю, что реформы неизбежны просто потому, что тот строй, тот
режим, который мы переживаем, в какой-то момент перестает нас устраивать. Причем
это справедливо независимо от того, живем мы в отсталой стране или в передовой.
В какой-то момент развитие идет, опережая те институциональные ограничения,
которые есть, и появляются силы, которые хотят эти институты заменить. Рано или
поздно эти силы начинают главенствовать,
и потому реформа действительно оказывается неизбежной.
Это некая
оптимистичная картина мира. Я понимаю, неизбежно было то, что произошло в 90-е
годы, совершенно так же неизбежно мы придем к очередному витку реформ. Но, с
другой стороны, это же вселяет в меня пессимизм. Почему? Потому что я прекрасно
понимаю, что этих преобразований можно ждать очень и очень долго. Вроде бы мы как
экономисты можем объяснять, какие реформы сейчас нужны. Мы можем читать лекции
на тему, почему существующая институциональная среда не соответствует призывам
времени. Нас не устраивает, что Россия в течение последних веков остается
отсталым государством. Почему мы не можем просто-напросто сделать так же, как
сделали страны, которые сегодня в два – три раза богаче нас?
Мы, экономисты,
понимаем, как сами полагаем, что именно нужно для этого делать, и вроде пишем
об этом в учебниках и рассказываем об этом в лекциях. Рассказываем об этом в
телевизоре. То есть вроде бы всё понятно, но, тем не менее, все эти нужные вещи
упорно не делаются. И упорно не делаются потому, что есть другие силы, которые не заинтересованы в этих преобразованиях,
состояние этих сил будет ущемлено, если такие реформы будут осуществлены.
Поэтому я понимаю, что перемены неизбежно когда-нибудь произойдут, но когда именно
и что можно сделать для того чтобы они наступили раньше, и что можно сделать,
чтобы это произошло максимально гладко, безболезненно, бескровно, вот на этот
вопрос очень сложно ответить.
Я понимаю, что
роль личности в истории не так велика, как иногда хотелось бы. И более того,
как только реформы действительно начнутся, сразу начнется и то сопротивление, о
котором говорил Андрей Колесников, и реформы не будут доведены до конца и будут
исковерканы и представлены в другом виде – как мы много
раз видели. И результат будет совершенно не тем, который мы ждем. Я помню, о чем
мы мечтали в 1991 году, когда действительно было время надежд. Мы думали, что «вот
сейчас будем строить новую Россию, будем строить демократию и рынок». И если бы
я должен был поставить оценку нам как обществу за то, что мы смогли сделать за прошедшие
24 года, то оценка эта была бы невысокая.
По-моему, мы
мечтали не о том, что в итоге получилось. Мы не построили то, о чем мечтали. В
глазах большей части общества это означает, что реформаторы ошиблись. Что
реформаторы сделали только хуже, сломали предыдущий строй, но не смогли
построить что-то новое.
В моих глазах,
конечно, ситуация выглядит совершенно по-другому. Старый режим рухнул, рухнул
под гнетом противоречий и диспропорций, которые накапливались в нем
десятилетиями. А на месте этих руин мы как общество не смогли построить новую
структуру. Были люди, которые конструктивно участвовали в создании этих новых
форм. Но были и такие, которые не только сопротивлялись преобразованиям, но и
уродовали идущие процессы, пытались направить их в иное русло, которое было
выгодно именно их интересам. Иногда два противоположных начала совмещались в одном
человеке, потому что различные стимулы диктовали конфликты интересов.
И вот эта
безысходность, она тоже меня пугает. То есть я понимаю, что реформы, когда они
начнутся, вряд ли пойдут по тем
сценариям, которые были бы для меня желаемыми, о которых я могу говорить на
лекциях, которые могу описывать в
научных статьях. Я прекрасно понимаю, что преобразования пойдут
опять-таки как некий компромисс между группами интересов, которые окажутся наиболее
влиятельными на тот момент. И в зависимости от тех интересов, которые они, эти
группы, будут отстаивать. Действительно, как вырваться из этой ловушки? И как
сделать так, чтобы мы все-таки положительно повлияли на ход событий? В конце
концов, смогли ведь многие страны решить эту задачу!
Я не считаю нашу
страну дефективной. Я не понимаю, почему Япония смогла, а мы не можем. Поэтому
оптимизм во мне остается, но его трудно примирить с детерминизмом, с этим
ощущением безысходности.
Вот, это моя
реплика в продолжение того, что было сказано. А теперь я открою дискуссию. Евгений
Евгеньевич, вам слово.
Евгений ГАВРИЛЕНКОВ
(управляющий директор, главный экономист
инвестиционной компании SberbankCIB):
«Почти четверть
века мы живем со стойким ощущением кризиса, а это состояние не способствует
реализации комплексной программы реформ, поскольку требуются лишь антикризисные
точечные меры»
Я только что
вернулся с заседания – где также присутствовал и Евгений Григорьевич, – на
котором обсуждались проблемы регионального развития, и звучала тема кризиса. Точнее,
тема ощущения кризиса. И я хотел бы обратить внимание коллег на то, что вот это
ощущение кризиса так глубоко сидит в нас, что мешает, на мой взгляд, проводить
какие-то серьезные преобразования. Потому что если есть кризис, то первое, что
нужно, это антикризисная программа – не более того.
Если мы вспомним
середину 80-х годов ХХ века, когда уже началось брожение в умах и экономика развивалась
не так, как хотелось бы, то признаем:
тогда и пришло это ощущение кризиса. Потом был, можно сказать, полномасштабный
кризис прежней хозяйственной системы – он пришелся на конец 80-х годов. Наступили
90-е годы. Это уже трансформационный кризис, который длился целое десятилетие,
включая в каком-то смысле и 1999 год.
Бескризисных
лет, если мы их посчитаем, гораздо меньше, чем кризисных, начиная с середины
80-х годов. 2007 год – это уже первые сигналы, что наша экономика затормозилась
и что в глобальной системе возникли проблемы. Потом 2008-й, 2009 год – это уже
полномасштабный глобальный кризис. 2010-й, 2011-й, отчасти 2012 год – тогда у
нас были приличные показатели по росту, и ощущение кризиса ушло. А вторая
половина 2012 года – резкое торможение. 2013 год – уже практически отсутствие
роста, как и 2014-й…
В сумме получается,
что 70% времени мы жили с ощущением кризиса. И если есть кризис, то давайте
антикризисные меры. Между тем антикризисные меры, как правило, непоследовательны.
Нет четкой программы выстраивания всей системы институтов, и намерений таких нет,
потому что нужно заниматься кризисом. Возьмем конец прошлого года – пошла вверх
инфляция, возникла угроза, что она будет и дальше расти, и поэтому в рамках
антикризисных действий вводятся определенные меры, которые, например,
направлены на то, чтобы не допустить этой инфляции.
Мер было много.
Одна из них – запретили экспорт зерна. С тем чтобы цена на хлеб не ушла вверх.
Понятно, что хлеб не составляет большой доли в потребительской корзине, а инфляция
все равно ушла вверх, но в итоге аграриям не дали заработать столько, сколько
они могли бы заработать. Потому что урожай в прошлом году был неплохой, свыше 103
миллионов тонн зерна в сухом весе при внутреннем потреблении примерно 71
миллиона тонн, с учетом корма скоту. То есть достаточно много зерна можно было бы
экспортировать, получить доход и войти в новую посевную с деньгами. Но в полном
масштабе это сделать не разрешили, потому что кризис! В итоге в конце января –
феврале, когда начались рассуждения «А где взять деньги, чтобы профинансировать
посевную», и когда аграрии пришли в банки, в регионах им предложили примерно 28-процентную
ставку годовых. На что аграрии сказали: «Спасибо, не надо. Думаем, что лучше мы
в этом году ничего делать не будем, чем рисковать активами и потерять их».
После этого
вмешалось правительство, в рамках поддержки аграрного сектора как части тех же антикризисных
мер. Правительство сказало, что мы субсидируем ставку, дадим, допустим, 14%
субсидий. То есть правительство занято выработкой антикризисных мер, принимая взаимно
противоречивые решения.
Это просто
пример из жизни, это уже не макроэкономика. Другой пример. Кризисная ситуация в
конце прошлого года. Ощущение, что она кризисная, глубоко сидит у нас в душе. Антимонопольная служба, если мне память не
изменяет, решила запретить экспорт товаров, если экспортная цена оказывается ниже
российской. В начале года доллар стоил 65 – 70 рублей. Если бы этот курс
сохранился в течение года, ВВП на душу населения в России сравнялся бы с
китайским (в то время как пару лет назад наш показатель раза в два превышал
китайский). То есть мы стали бы конкурентоспособными на китайском рынке.
И, собственно
говоря, мы отчасти стали – давайте представим себе некую компанию, которая
расположена, допустим, на Дальнем Востоке. Компания эта – крупный по
региональным меркам производитель стройматериалов, который, наверное, может
считаться региональным монополистом (это тоже пример из реальной жизни). Она
подписала контракт на экспорт стройматериалов в соседнюю страну, что, в общем-то,
достаточно показательно для начала года, когда несырьевой экспорт начал расти.
Но курс рубля затем укрепился с 65
рублей до 50 и даже ниже. И внезапно оказалось, что эта компания, строя свой
нормальный бизнес, стала нарушать запрет продавать товар по цене ниже
российской – просто из-за движения курса рубля. И это тоже следствие поспешных антикризисных
мер. И, как известно, лучше не иметь такого рода проблем с регулирующими
органами, а там еще возможны штрафы, нужно юристам нужно платить и так далее.
Все это мешает
развитию бизнеса, потому что ощущение кризиса толкает правительство на принятие
точечных, непоследовательных мер. То же самое с пенсионной реформой. Пару лет
назад приняли решение не перечислять денег в пенсионную накопительную систему.
И о последствиях тоже ведь никто не задумывался. Было ощущение, что будут
проблемы с бюджетом, а их не было. Потому что бюджет в прошлом году был фактически
профицитным (если не учитывать чисто техническую транзакцию в самом конце года),
а в позапрошлом с маленьким дефицитом. Перечислений в накопительную систему не
было, и к чему это привело? Это привело к тому, что уже с конца 2012 года
начался рост процентных ставок по госбумагам. И денег в системе было много, и
больших проблем с долгом у государства нет. Но поскольку спрос на госбумаги частично
снизился в силу того, что управляющие компании перестали получать пенсионные
деньги, ставка пошла вверх.
Отсюда и начали раскручиваться
все наши нынешние макроэкономические проблемы – если ставка идет вверх, то,
значит, надо добавить денег в экономику, и это со второй полвины 2013 года
начали делать довольно активно. После чего эти деньги потекли преимущественно на
валютный рынок во всё увеличивавшихся объемах – рубль начал слабеть, а инфляция
ускоряться уже тогда. Это всё такие точечные меры, направленные на решение
каких-то точечных проблем в рамках антикризисного мышления, о комплексных последствиях
которых регуляторы не всегда задумываются.
Я не буду дальше
развивать макроэкономическую тему. Но, может быть, говорить об очередном цикле реформ как таковых сейчас преждевременно? Просто
нужно для начала забыть про ощущение кризиса, вернуться к нормальной
экономической политике, а потом посмотреть, что требуется. Потому что точечные
меры подают настолько искажающие сигналы, что вообще непонятно, что делать. Бизнесу,
в первую очередь.
Олег ЗАМУЛИН:
Ну что, коллеги,
продолжим. Прошу вас, Сергей Константинович.
Сергей ДУБИНИН (председатель наблюдательного
совета Банка ВТБ):
«Сегодня популистская политика власти рассчитана на
поддержку именно тех людей, которые боятся рыночных сил и конкуренции, и это
разрушает сами принципы проводившихся либеральных реформ»
Уважаемые
коллеги, прежде всего, я хотел сказать о реформах и контрреформах и о цикле, в
котором мы живем. С моей точки зрения, эта тема очень тесно сопряжена с
пониманием структуры общества – насколько глубоко она преобразовалась и в чем
оставалась прежней на протяжении длительного времени. Иначе бы не было этих
циклов повторений.
Давно известно и
давно сказано, что в России нет борьбы и конкуренции партий, а есть конкуренция
и борьба институтов. Причем в рамках государственной власти. При анализе
попыток преобразований – и в XIX веке, и в ходе революции 1917 года, которая, кстати, совершилась после,
казалось бы, достаточно глубоких политических и экономических реформ, выяснилось,
что государственная власть и те, кто себя называл общественностью, обществом, противостоят
друг другу. Однако ни те, ни другие, в общем-то, толком не знают, чего же хочет
большинство жителей страны и каковы реальные цели этого большинства. Оказалось,
что эти цели не связаны ни с демократией, ни со свободными и равными выборами,
а связаны, главным образом, с передельной революцией, земельной революцией.
Компромисс между
исторической властью, как тогда выражались, и обществом не был найден. Почему?
Потому что историческая власть, или царская власть, была пронизана коррупцией.
Но главное – с ней невозможно было договориться, потому что у царской
администрации не было желания договариваться. Обе стороны не понимали необходимости
компромисса. А когда формальная власть оказалась в руках общества, то есть у Государственной
думы, та не смогла этой властью распорядиться, хотя возглавлявшие Думу люди,
казалось бы, годами готовились к этому. Их просто смело, и тех и других, этой
передельной революцией.
В СССР что-то сходное
начало происходить в 80-е годы ХХ века. Тогда историческая власть
коммунистической номенклатуры не была готова к компромиссам, даже несмотря на
то, что ее к этому призывал собственный формальный лидер – Генеральный секретарь
ЦК КПСС. А у демократов не было целостной программы преобразований. Несмотря на
то, что существовали многочисленные исследования приверженцев реформ, выложить конкретную
программу и объяснить, что надо делать шаг за шагом, никому не удалось. Это сложилось
уже постфактум, когда исчезла старая власть, которая централизованно удерживала
страну.
Программа
реформ была конкретизирована Ельциным, Гайдаром, Ясиным в 1991–1992 годах. Мне
кажется, что во многом она была импровизированной. Период между попыткой косыгинских
реформ и этими преобразованиями ранней эпохи Ельцина оказался упущенным
временем. Не была проделана необходимая работа для формулирования целостного видения и последовательного реформирования экономики.
При этом
общество тоже оказалось не готово даже к программе начала 1990-х. Я говорил со
многими людьми и тогда и сейчас. Большинство главным образом выходили на борьбу
с привилегиями в рамках социалистического строя. Не столько на борьбу за
демократию, а уж тем более не за рынок. Те, кто выходил тогда к стенам Кремля, о
рынке знали довольно мало. «Кто съив моё
мясо?» – вот это был лозунг по всей стране.
Я пытаюсь
передать украинский лозунг, но он тогда был действительно всеобщим. Это повсюду
звучало. В тот момент у нас это колебание настроений в пользу передельной
революции могло всё снести. Здесь демократы-реформаторы, мне кажется, не
повторили ошибку 1917 года, а достигли компромисса с исторической властью – номенклатурой.
Потому что в номенклатуре была та часть, которая готова была к переменам и
хотела их. Наверное, в личных, собственных интересах. Например, «красные
директора» – те, кто не был непосредственно связан с партийным руководством.
Они хотели взять в свои руки, прежде всего, власть над производством и получить
его в частную собственность. Вот на этот компромисс договорились. Если для
получения собственности нужен рынок,
пусть будет рынок. Видимо, это воспринималось как неизбежное последствие реформ,
но целью было получить производственные мощности в собственность. Такое
соглашение позволило, во всяком случае, сохранить страну, и без той кровавой
бани, которую Россия прошла в 1917–1919 годах.
В начале реформ
мы были не так далеки от гражданской войны, шанс погрузиться в нее был и в 1993
году. И сейчас я считаю, что гражданская война на Украине – это во многом гражданская
война советская. Она еще недоиграна, незакончена. И, да, она идет с участием,
безусловно, активным, России и нынешних украинских властей.
Можно было, с
моей точки зрения, оказаться в гораздо более тяжелой ситуации, чем та, что реально
сложилась в стране в 1990-е годы. Конечно, обнадеживает, что период
трансформации удалось пройти без войны и что результатом 1990-х годов, этого
реформаторского трансформационного
периода, стали все-таки серьезные достижения.
Кризис 1998 года
– это конец некой переходной эпохи в процессе трансформации. Стало понятно, что
экономика работает по определенным рыночным стандартам. И кризис сам по себе
был рыночным. Да, финансовый рынок в каком-то смысле сработал именно на кризис,
но это был рыночный кризис. И потом шло восстановление. Конечно, России повезло
с ценой на нефть, но это уже была восстановительная работа в рамках рыночной
экономики.
А вот проблема
как раз нулевых, а особенно периода кризиса 2008–2009 годов – это свертывание
демократии, и в том числе рыночной экономической политики, это отступление, и это
ведет к склеротичности рынка. Экономика начинает трансформироваться в
нерыночном направлении, и какими бы крупными либералами не были идейно многие нынешние
руководители экономического блока, они живут по правилам того самого ручного
управления. Изо дня в день идет в ход такой manualcontrol, когда решается конкретная задача. Для
этого применяется первая попавшаяся мера ручного управления, как хорошо показал
Евгений Евгеньевич. Принимается мера, дающая немедленный эффект, хотя она
фактически не решает проблему и одновременно усугубляет другие проблемы.
Вот этот процесс
потеря рыночности у нас зашел довольно далеко. Но дело не только в намеренном
сворачивании рыночных отношений, дело еще в том, что сами агенты рынка не хотят
работать в условиях конкуренции, борьбы за повышение производительности труда и
так далее. Им гораздо проще договориться об уровне цен на рынке. Об этом
договариваются, судя по всему, и крупнейшие госкомпании, и крупнейшие частные
компании. И даже два ларечника, которые поставят свои палатки на привокзальной
площади, первым делом пойдут договариваться, по какой цене им продавать то, что
они сюда привезли.
Популистская
политика власти рассчитана на поддержку именно тех людей, которые боятся
рыночных сил и конкуренции. Что касается общества, оно по-прежнему не готово к осознанию
реальности. Думаю, что социологи это должны как-то фиксировать в своих
исследованиях. Россия пока еще не готова к необходимым, как мы считаем,
преобразованиям, и с этим приходится считаться. Нельзя сводить все проблемы
реформирования только к идиотизму какой-то бюрократии. Предстоит решить очень
непростую задачу – убедить наших российских граждан, людей, живущих в нашей
стране, что надо идти путем конкуренции, как в экономике, так и в политике. Путем
расширения свободы действий индивидуума, а не путем выстраивания вертикали
власти и «дирижизма» с ручным управлением. Не может быть великой державы без
конкурентоспособной экономики.
Подведу итог.
Что получилось? Это все-таки некая рыночная экономика. А что не получилось? Не
получилось как раз убедить общество в ее ценности. Пока реформам не будет
обеспечена поддержка самых широких слоев общества, угроза отката в деле
реформирования будет существовать.
Олег ЗАМУЛИН:
Спасибо. Слово
представителю социологии – Льву Дмитриевичу Гудкову.
Лев ГУДКОВ
(директор Левада-Центра):
«Реформы 90-х годов были частичными и совершались
лишь в отдельных сегментах социальной жизни, а в целом население России на
протяжении всех последних 25 лет живет с сознанием проигрыша от происходящих
изменений»
Я продолжу то,
что начал Сергей Константинович. 27 лет мы наблюдаем процессы трансформации или
характер изменений в разных сферах. Я вполне согласен с Андреем Колесниковым в
том, что хорошего анализа реформ или даже их описания, разбора, нет. Есть
перебранка по поводу оценки идущих реформ, есть ругань, есть апологетика, но
хорошего институционального или политологического анализа нет. И это достаточно
серьезный дефект нашего интеллектуального сообщества.
Я бы не называл события,
обозначившие рубеж 1980-х – 1990-х годов, «революцией», как это часто
приходится слышать. Понятие «революция», с моей точки зрения, вообще не очень
адекватное понятие для описания второй половины ХХ века. Это лишь аналогия с
тем, что происходило в начале модернизационных процессов в Европе и России, не
более того. Никакой смены сословий или классов в ходе 1991–1992 годов не было.
Персонально состав советской номенклатуры, административный аппарат управления
оставались теми же самыми, циркуляция правящего слоя (за исключением высшего звена или высшего руководства –
Политбюро, ЦК КПСС, союзного правительства и т.п.) шла теми же темпами, что
изменения, обусловленные естественными, то есть демографическими, причинами.
Тем не менее,
имели место очень значимые институциональные изменения – ликвидированы
планово-распределительная экономика (Госплан), монополия КПСС на кадровые
назначения (а значит – контроль над социальной структурой и вертикальной мобильностью),
изменились отношения собственности, введены основы рыночной экономики. Но
структура и организация власти –
вертикально выстроенная, не контролируемая обществом, опирающаяся на зависимый
суд и политическую полицию, обладающую экстраправовыми полномочиями и т.п., –
осталась практически не измененной. А значит, бóльшая часть институциональных
сфер общества потенциально оставались в зоне административного произвола.
Поэтому реформы были частичные, они совершались в отдельных сегментах
социальной жизни. Это реформы скорее управления, в которых определяющую роль играли экономисты.
Те, кто называют эти изменения «революцией», фактически закрывают возможность
более сложной интерпретации тех
событий, того, что было.
Совершенно не
случайно, как мне кажется, необходимость реформ осознана, в первую
очередь, советскими экономистами, и
именно экономисты задумывались, как их
проводить, и так или иначе – в союзе с
некоторыми отпавшими членами партийной номенклатуры – их осуществляли.
Ни юристы, ни политологи, ни социологи, ни историки, ни общественные деятели не
были к этому готовы в практическом плане, и, вообще говоря, играли в этих
процессах и в проектировании изменений и осмыслении их крайне слабую роль. В
лучшем случае описательную, но не конструктивную.
Почему так было?
Потому что только экономисты, даже с академическим образованием, были включены в практические отношения
управления, имели какое-то представление о реальных проблемах и наличной
структуре социальных интересов, ресурсах другой мотивации и т.п. Именно экономика
была той областью знаний, где действительно соединялись некоторый опыт переходного
периода других стран и понимание серьезности
или катастрофичности тех проблем, к которым мы подошли к тому времени. В
остальных сферах если и был потенциал сопротивления советской тоталитарной
системе, то он носил характер виртуального
действия, ценностной несовместимости и общих мечтаний о другой жизни.
Я хочу обратить ваше
внимание, – и сегодня об этом отчасти уже говорилось, – что все изменения у нас
(то есть в таких режимах господства, где подавлены публичная сфера,
политические дискуссии, представительство групповых интересов, а значит
стерилизованы механизмы политического целеполагания и ответственности власти) происходят
только в ситуациях приближающейся катастрофы, когда откладывать их уже нельзя.
И этот вот принудительный характер
изменений, прежде всего системы управления, он определяет и рамки, и цели, и
возможности или масштабы изменений. Этот вынужденный характер изменений обусловливает
и скорость, и порядок предпринимаемых шагов, и вообще возможность что-то сделать.
Этим (то есть
неготовностью продвинутой части общества, носителей морального авторитета) ситуация
в России радикально отличалась от стран Восточной Европы, где все-таки уже
сложились теневые структуры и гражданского общества, и политических организаций,
выступивших в качестве катализаторов больших общественно-политических движений,
перевернувших тоталитарный порядок и приступивших к конституированию новых
социальных отношений и систем. Более того, в этом смысле такие
восточно-европейские группы, хотя еще теневые, латентные, обладали уже некоторым
планом, намечали перспективы возможных решений, пусть и без гарантий их
успешности, но все-таки они предполагали другое видение реальности. Скажем, так было в Эстонии, где уже в 1987-м –
начале 1988 года была разработана первая в СССР программа реформ
(республиканского хозрасчета, а по сути – первый шаг к достижению национального
суверенитета).
В нашей,
российской, ситуации ведущая роль
экономистов в планировании изменений означала, что мы были обречены на экономический
детерминизм. Поскольку никакого понимания, что надо делать в других
социальных областях (исторической политики, партийного строительства, правовых
реформ, люстрации, нейтрализации сопротивления репрессивных институтов и прочее),
не было. Политические решения здесь носили характер чистой импровизации. Если
сравнить с этим, например, политику денацификации в Германии, то есть практику
последовательного блокирования механизмов воспроизводства нацистского прошлого,
включавшую запрет на профессиональную деятельность в некоторых сферах
(недопустимость участия высоких нацистских чинов в органах государственного управления,
осуществления правосудия, работы в СМИ, системе образования, идеологии,
культуры), то следует признать, что этот
опыт у нас не принимался во внимание и, честно сказать, не очень мог бы быть
осознан и принят.
Понятно, что
крайне важной для успеха реформ была проблема декоммунизации, мобилизации
определенных сил для обеспечения политики трансформаций массовой социальной
поддержкой. Но как вы проведете декоммунизацию, когда вся структура управления
состоит сплошь из коммунистов? Здесь не только никто не думал (в категориях
практических шагов!) о люстрации или возможности блокирования консервативной
демагогии и пропаганды, но и не предполагал, что такого рода проблемы
возникнут, надеясь, что достаточно запустить некоторые рыночные механизмы, как
все пойдет своим путем.
О том, что было
сделано в Германии, в частности, запрете на профессии, здесь было невозможным
даже помыслить. Поэтому попытки пересмотра тоталитарного прошлого или суда над
КПСС сразу уже были обречены на неудачу,
а значит – сохранялись ресурсы для реакционного реванша оставшихся радикалов и
фракций прежней номенклатуры (опиравшейся на инструменты политической полиции,
КГБ, а также МВД и армии). Поэтому рамки возможных изменений были действительно
определены административными изменениями – прежде всего структур массового
хозяйственного управления. И это сразу ограничило характер предстоящих сдвигов.
Я сразу укажу на
то, что неудачи реформы или границы изменений были обусловлены и предопределены
тем, что у реформаторов не получилось включение интересов широких социальных
групп, но они и не ставили себе таких задач, полагая, что это произойдет
автоматически, само собой. Ни одна реформистская группа здесь, в России, не апеллировала к массам (я не имею в виду
обращения, имевшие характер электоральной мобилизации, это другое), не пыталась
исходить из реальных интересов больших групп людей, их набора проблем, их
горизонта понимания происходящего. А соответственно, не было мощного движения снизу,
не было поддержки политических партий,
конкуренции программ изменения наличного порядка у этих партий. Более того,
сама партийно-политическая структура в момент краха СССР и позднее представляла собой лишь борьбу фракций,
осколков распавшейся советской номенклатуры. С соответствующим характером
номенклатурных интересов, границами возможного, горизонтом и пределами намечаемых
изменений.
Поэтому население
на протяжении всех последних 25 лет живет в сознании проигрыша от происходящих
изменений, и это так, несмотря на то что
жизненный уровень в двухтысячных годах начал расти и восстанавливался уже к
2003 году, если сравнивать с предперестроечным уровнем жизни.
Что хотело
население? Никаких представлений о возможном состоянии и новом обществе у населения не было. Границы
запросов определялись, условно говоря, идеей «социализма с человеческим лицом»,
то есть преодолением дефектов планово-распределительной, а значит хронически дефицитарной
экономики, ну и некоторым смягчением административного произвола и повседневной
зависимости от власти, унижением от насилия и беззакония. То есть доминировали
прежде всего государственно-патерналистские установки. Непонятны были ни рынок,
ни характер предшествующих изменений, ни смысл политического участия и
собственной ответственности за будущее.
Отсюда и очень
слабая поддержка всех предыдущих изменений, непонимания их и того, что
предстояло сделать. И сам ход изменений действительно носил в очень большой
степени характер управленческих решений,
изменений управления и изменения собственности. Вот эти главные события, которое
произошли. В этих границах реформы и достигли результата, и были приняты
населением. Ну, тоже не во всем, поскольку действительно крупная собственность
до сих пор остается нелегитимной или сомнительной, с точки зрения социальной
справедливости. Но это не «революция».
Если говорить о
том, что произошло затем, почему вначале имел место авторитарный переворот, а
затем и нынешний путинский рецидив тоталитаризма, чем можно объяснить
историческую неудачу российской модернизации, то главный вывод, который я бы
сделал, заключается в следующем признании. Не удалось связать планы предстоящих
социальных и институциональных изменений с
массовыми ожиданиями, с
интересами не только продвинутых и
околовластных групп, но и с интересами других и широких групп населения.
Собственно,
именно отсутствие понимания включения в программу реформ широкого круга
населения и определило перспективу их будущей неудачи или, точнее,
ограниченности. Провинция, а именно здесь,
прежде всего, живет основная
часть населения, оставалась чисто консервативной, замкнутой в те структуры, в
те рамки, которые определялись отраслевой структурой советской
милитаризированной экономики, провинция выхода из неё не видела. Это раз. Два – важнейшие
институты, которые потом блокировали ход изменений, а именно, силовые
структуры, судебную систему, нельзя было оставлять на потом, нетронутыми. Именно
они сегодня, несмотря на все пертурбации, образуют базу нынешнего режима,
подавляющего в целях самосохранения любые основания модернизации, они
остались полностью зависимы от вертикального устройства власти.
Оглядываясь
назад, приходится говорить, что тенденции к консервации изменений начались с
того момента, когда произошли перемены в характере собственности. После этого началось блокирование дальнейших социальных и
политических изменений, консервация социальной системы (первые признаки – уже к
президентским выборам 1996 года). Так что в этом смысле правильнее было бы
описывать происходящие процессы как усилия по модификации прежней системы, а не
трансформация ее. Или, по меньшей мере, можно говорить о частичной, сегментированной
трансформации отдельных институциональных сфер, но никак не о революции или о полноценных,
полномасштабных реформах.
Последние
все-таки имели место в других странах,
были болезненными, шли с большим
трудом, но, главное, шли при другой системе массовой поддержки. Был другой
масштаб включения групп интересов.
Олег ЗАМУЛИН:
Коллеги,
кто-нибудь еще хотел бы выступить?
Виктор ШЕЙНИС (главный научный
сотрудник ИМЭМО РАН):
«Извлечь основной урок из либеральных
реформ 90-х – значит понять опасность безоглядной мобилизации масс по модели “вождь
и народ” в обход представительных институтов»
Для
начала мне хотелось бы оспорить высказанное здесь утверждение, что реформы –
речь идет о либеральных реформах – были неизбежны, поскольку они определялись
нараставшим кризисом. И вопрос будто бы заключался лишь в том, когда – рано или
поздно – они наступят. Общий кризис коммунистической системы действительно
углублялся, запах гниения ощущался всеми, кто не утратил соответствующие
рецепторы. Но из этого вовсе не вытекало тогда (как не следует и сейчас), что
единственный выход – в конструктивных реформах.
На
рубеже 1978–1979 годах неформальная группа ученых, в которой мне довелось
участвовать, осуществила своего рода «мозговую атаку». 45 экспертам, преимущественно
научным и творческим работникам Москвы и Ленинграда, были заданы 23 вопроса на
тему «Ожидаете ли Вы перемен?». Большинство ответов, отразивших настроения в
среде критически мыслящей интеллигенции, сводились к тому, что если перемены в
обозримый период и наступят, то они приведут к ужесточению режима или крушению
общества и государства.
Из того,
что вместо того или другого наступила перестройка Горбачева, вовсе не вытекает,
что она была исторически предопределена. Такой выход из кризиса был не детерминирован, а вероятностен. Причем
реализовался, на мой взгляд, не самый вероятный вариант. Осознание этого важно
не только для понимания, что и почему произошло с нашей страной 25–30 лет тому
назад, но и для оценки сегодняшней перспективы.
Критика
инициаторов перестройки второй половины 1980-х годов и реформаторов 1990-х
сейчас в моде. Но необходимо отдавать отчет в
неимоверной трудности преобразования такой экономики и общества, какие
существовали в СССР. Переход заведомо не мог быть ни легким, ни быстрым.
Обществу, начавшему такой переход, как справедливо утверждают Ральф Дарендорф и
Адам Михник, приходится брести «долиной слез». Вопрос только в том, как велики
издержки перехода и как долго он будет длиться. В нашем случае не только по
субъективным причинам, но и по объективным трудности оказались особенно
тягостными и во многом предопределили слом перестройки, грубое искажение сути
либеральных реформ и затаптывание начавших было пробиваться всходов демократии.
Это вторая зарубка для осмысления возможных перспектив преодоления тупикового
пути развития, по которому ныне пошла Россия.
Возможности
менее болезненного перехода упущены в годы перестройки. Реформаторы эпохи Ясина
оказались у рычагов государственной власти, когда их возможности были серьезно
ограничены. Это не бросает тень на исторический прорыв, совершенный Горбачевым,
Яковлевым и их сподвижниками, и не преуменьшает заслуг тех, кто приступил-таки
наконец к реформам, когда к ним перешла эстафета преобразований. Но это не
освобождает нас от нелицеприятного анализа упущенных возможностей. Один из
видных деятелей команды Горбачева недавно высказал сожаление, что у тех, кто
сдвинул развитие с мертвой точки, не было продуманного плана преобразований. Но
такого плана не было и не может быть во времена как революций – а я полагаю,
что перестройка было революцией, – так и глубоких реформ.
Перестройку
инициировала и в течение двух–трех лет направляла группа реформаторов, за прозрениями и заблуждениями
которых стоял их социальный и профессиональный опыт прошлого – иного у них быть
не могло. В то время когда свобода рук первого лица в государстве была
наибольшей и дисциплина исполнения партийно-государственным активом исходивших
сверху предписаний еще не была вконец развалена, выбор стратегии
преобразований –и в особенности переход к радикальной экономической реформе –
тормозились как представлениями о пресловутом «социалистическом выборе», так
и убеждением, что «Союз можно
сохранить». И расчетом на то, что развитие внутрипартийной демократии заставит
аппарат стать механизмом преобразований, подрывающих его властную роль.
Неизбежность
такого рода ограничителей и необходимость их преодоления надо иметь в виду,
если инициатива реформ исходит из ядра правящего класса. А ведь мы все,
кажется, разделяем мнение, что это наиболее подходящий триггер для мирного,
наименее болезненного способа перехода к преобразованиям. Здесь возникает,
однако, проблема взаимодействия инициаторов перемен и пробужденных ими новых
сил, настроенных, как правило, более
радикально. Так, кстати, было и в эпоху Великих реформ Александра II.
Как бы
то ни было, людям, призванным провести отложенные реформы, досталась экономика
с углубившимися диспропорциями, с более уязвимым положением в системе
мирохозяйственных связей. И социум, в котором уже стал действовать бумеранг
несбывшихся ожиданий, а постепенно консолидировавшиеся консервативные силы
вырывались из подчинения и контроля над ними из центра. В обществе усиливалась
социально-политическая дифференциация. Демонтаж механизма коммунистической
диктатуры освобождал поле для прорастания не только демократических структур,
но и разного рода сорняков – обретавших известную самостоятельность звеньев
государственного силового аппарата и инициативных объединений реакционеров,
сопротивлявшихся переменам и торопившихся вбросить в накалявшуюся атмосферу
свое «слово к народу». Самым зловещим их выбросом стал ГКЧП. Его попытка
изменить направление событий привела к резкому обострению всех противоречий и
перехвату инициативы силами, сделавшими ставку на российского президента.
Эта
политическая рокировка имела неоднозначные последствия. Она открыла возможность
для радикализации экономических реформ, затягивание которых грозило коллапсом,
и вместе с тем во многом предопределила такие способы их проведения, которые
наложили крайне негативный отпечаток на весь ход дальнейшего развития.
Возможности продолжить начатые демократические преобразования и в том или ином
виде воспроизвести путь, по которому пошли бывшие страны соцлагеря в Восточной
Европе, были перечеркнуты. Но произошло это не сразу, и свою долю
ответственности за трагический разворот событий несут те, кто встал у власти в
главной республике СССР. И те общественные силы, включая демократов, которые
помогли им сначала утвердиться у власти, а затем осуществить реставрацию
авторитарного режима в новых политических и социально-психологических условиях.
Только
ленивый не проклинает реформы 90-х
годов. Я отнюдь не являюсь их апологетом. Но от присоединения к общему хору
обличителей удерживает элементарное чувство брезгливости. И научный подход, и
внятная (а не демагогическая) политическая позиция требуют детального анализа разных
реформ, которые пристрастное толкование ухватывает enmasse, и обстоятельств, в которых
действовали реформаторы, а следовательно, и их возможностей. Разумеется,
подробному разбору не место в кратком выступлении, но на некоторые
принципиальные моменты следует обратить внимание.
Вспоминают
шок 2 января 1992 года – освобождение цен и их взлет к концу года в 26 раз. Из
этого делают вывод об экономической некомпетентности Гайдара и его
правительства. Но сбрасывают со счетов то, что время для более мягкого перехода
к рыночному ценообразованию было упущено. Последний раз такая возможность
промелькнула летом 1990-го, когда в угоду консервативным склонениям большей
части политической и экономической элиты, в кругу которой осуществлялся выбор,
в соревновании двух программ перехода к рынку предпочтение было отдано
мертворожденному «радикально-умеренному» варианту Рыжкова – Абалкина,
победившему «500 дней» Явлинского. За несколько месяцев экономическая ситуация
серьезно ухудшилась. В результате поле возможностей, из которых предстояло
выбирать теперь уже российскому правительству, существенно сузилось.
Оспаривая
утверждение Гайдара, что только освобождение цен предотвратило дефицит
продовольствия и голод в городах, известный экономист настаивает, что запасы
продуктов в стране были. Даже если и так, доставить их в торговую сеть главных
городов можно было, лишь высвободив цены либо направив к держателям продотряды.
Работая в Верховном Совете, мы знали, как давление популистов и консерваторов
вынуждало Гайдара выдавать кредиты лежавшим на боку предприятиям – запуская
печатный станок и разгоняя инфляцию, что и вывело ее к концу года на уровень
2600%. Совладать с этим давлением было за пределами возможностей правительства
реформаторов.
Перетягивание
каната между двумя коалициями политического класса по поводу экономической
политики шло с переменным успехом. Это делало курс неустойчивым и тормозило
выход из кризиса. То была плата за продление срока действия «правительства
самоубийц». Чрезмерна ли она? Вероятно, да.
Некоторые решения повлекли за собой серьезные социальные деформации
–взять хотя бы залоговые аукционы. И все же определенную компенсацию за
издержки экономических реформ российское общество получило. Уже к концу 1992
года было покончено с унизительным спутником социалистического хозяйства –
тотальным дефицитом потребительских товаров, обострение которого в начале 90-х
годов начисто опустошило полки магазинов. Появились небывалые прежде
возможности экономической инициативы и материального преуспеяния. Выигрыш для элиты
– обретение директорами предприятий в собственность, а комсомольскими
работниками освоение новых форм предпринимательства. Для более широких слоев
населения, сумевших встроиться в квазиконкурентную среду, – частная торговля,
приватизация жилищного фонда, ваучерная приватизация и т. п.
В
течение какого-то времени общественная поддержка президента и правительства со
стороны большинства, еще верившего в перемены, сохранялась. Она нашла, в
частности, выразительное подтверждение
на свободно проведенном референдуме в апреле 1993 г., когда большинство
дало положительный ответ на вопрос: одобряете ли вы социальную политику
президента и правительства?
Но
главные потери были в политике, а не в
экономике. Сознавали ли сами реформаторы и поддерживавшие их силы, что они
исходят из ложной посылки «политика является концентрированным выражением
экономики», или нет, но они возлагали
чрезмерные надежды на то, что введение рынка автоматически повлечет за собой,
пусть с некоторым временным лагом, утверждение демократии. Само учреждение
рынка при этом отождествлялось с разгосударствлением хозяйства. Пренебрежением
к становлению независимого мелкого и среднего бизнеса сочеталось с
преобразованием государственно-монополистической собственности в
олигополистическую (завладение которой в значительной мере осуществлялось
преступными методами). В итоге мы получили
неполноценный рынок, заменили квазиклассовую стратификацию
коммунистического режима социальным расслоением, бросающимся в глаза и лишенным
какой бы то ни было легитимности. Все это вело к угасанию
антикоммунистического, антиимперского, демократического порыва масс народа.
Преобразования
перестройки и постперестройки были инициированы, как уже сказано, прозревшей
частью партийно-государственной номенклатуры и осуществлялись политическим
классом, существенно расширившимся и вобравшим в себя большие группы
интеллигенции и актив других социальных слоев. Такой тип социально-политических
сдвигов характерен для многих революций в разных странах. Многотысячные
демонстрации в главных центрах России и других советских республик проходили
под лозунгами демократии, преобразования политической системы и – как это ни
диковинно может выглядеть сегодня – противодействия имперским поползновениям
власти (например, люди скандировали «Свободу Литве!»). Но устойчивым все это
могло стать лишь при сохранении такого настроя у весомого меньшинства народа и
хотя бы при пассивной поддержке (одобрении) большинством населения.
Между
тем, чем глубже становились проводимые преобразования, тем больше раскалывались
по отношению к ним политически активные слои общества на более или менее
сопоставимые по величине и влиянию меньшинства. Это тоже закон всех революций.
Реформаторское меньшинство могло сохранить за собой лидирующую роль в
относительно быстротечном процессе лишь при двух условиях: если
приобретения больших масс населения (или
то, что они принимают за таковые!) перевешивают потери и если в общественной
жизни начинают прорастать институты,
которые становятся своими для этих масс.
Августовский
путч 1991 года потерпел сокрушительное поражение потому, что кучка путчистов
оказалась изолированной, их опора в лице партаппарата – деморализованной, а
ожидания людей, связанные с развитием демократических процессов, были тогда на
подъеме. Уже сентябрьско-октябрьские события 1993 года были схваткой двух
политически активных меньшинств при наметившемся уходе значительных групп
вчерашнего актива из политики и безразличии большинства. Утрата весомой
поддержки «партией реформ», так и не сумевшей организоваться в подлинную
партийно-политическую структуру (и это
было еще одной ее упущенной возможностью), отчетливо проявилась уже на
выборах 12 декабря 1993 года. Но она добилась в тот же день, – возможно, не
вполне безупречными методами, – вотума большинства в пользу Конституции.
Победившая
коалиция к этому времени подверглась существенной трансформации. Утратила
прежнюю роль демократическая интеллигенция. Отказавшись от претензий на
самостоятельность, она переставала быть влиятельной группой давления на власть,
укрепившуюся при ее активном участии. Росло влияние верхушки бизнеса, которая
пополнила властную коалицию и завладела
серьезными экономическими позициями. На бесспорно лидерскую роль выходила новая
генерация государственной бюрократии, которая быстро росла за счет выходцев из
старой номенклатуры (главным образом из ее второго и других нисходящих рядов),
сменивших политическую ориентацию, а также призыва в стремительно
увеличивавшийся аппарат «разночинцев» и былых активистов демократического
движения.
В этой переориентации
был главный просчет демократов. Утверждение Конституции большинство из них
сочло своим важнейшим достижением. Так оно и было, если судить по нормам,
зафиксированным в двух первых главах, – об основах конституционного строя и о
правах и свободах человека и гражданина. К сожалению, эти основополагающие
положения носят преимущественно декларативный характер. Механизм их реализации
зависит от организации государственной власти, описанной в последующих главах. Демократы и их
представители в государственных структурах сыграли выдающуюся роль в разработке
и продвижении проекта Конституции. Но размен:
слабо ограниченные прерогативы
государственной (прежде всего исполнительной и президентской) власти в обмен на
широковещательные права человека оказался неравноценным. В ходе последующего
развития демократический потенциал Конституции оказался не востребован, а
возможности власти выведены за конституционные и вообще правовые рамки.
Заблуждения
демократов, большинство которых не смогло в надлежащее время оценить опасность
собственной позиции по отношению к власти, имели свои причины. У них не было ни
укорененных институтов гражданского общества, ни развитой партийной системы.
Перед ними был сильный противник – возрождавшиеся образования коммунистической
системы и вздымавшаяся националистическая волна. Надо было каким-то образом
компенсировать свою слабость в стране:
пассивность и клиентельные ориентации населения, три-четыре поколения
которого (а не два, как в Восточной Европе) прожили в условиях системы,
искоренявшей любую неконтролируемую гражданскую активность. Не могли опереться демократы и на традиции
политической культуры, возникавшие в предреволюционной России, но не успевшие
войти в плоть и кровь народной жизни. Отсюда их ставка на сильную президентскую
власть, способную противостоять консервативной оппозиции, оплотом которой
становился парламент.
Созданная
в парламенте Коалиция реформ, номинально объединившая несколько демократических
фракций, оказалась неэффективной. Поэтому ставка была сделана на укрепление
института президентской власти. В президентскую администрацию шел переток
демократических депутатов из парламента, что еще более ослабляло их позиции в
законодательной власти. Но и в президентских структурах лидировали не они, а
группы новой бюрократии, которая связывала с укреплением президентства
собственные интересы. И интересы эти, как вскоре стало очевидно, все более
приходили в противоречие с интересами общества и заявленными целями
преобразований. Это отразилось и на содержании экономических реформ, которые в
стратегии демократов стояли во главе угла.
Распространено
убеждение, что сползание к авторитаризму, обозначившееся уже в середине 90-х
годов, проистекало из Конституции 1993 года. Это неверно: зависимость тут
обратная. Внесение в Конституцию недемократических норм и трансформация
политического режима отразили ослабление оппозиции, представлявшей противовес
власти, сдвиг в соотношении сил внутри самой власти, угасание в ней
демократической компоненты и продвижение элитных групп, ориентированных на
силовые методы. Менялся и сам президент: народный лидер, сделавший политическую
карьеру на противостоянии бюрократическому аппарату, превращался в «царя
Бориса». Произвольно меняя состав ближайшего окружения, он формировал свиту,
отнюдь не благотворно влиявшую на его решения и поступки.
В
политике он еще остерегался переступить некоторые запреты, но приняв, нередко
не без жестоких колебаний, трудные решения, упрямо претворял их в жизнь, не
разбирая средств и пренебрегая последствиями. Так, он не сумел оценить роковых
последствий чеченской войны, разрушительной для всей российской политической
жизни на многие годы вперед. Несмотря на резкое падение авторитета к концу
правления, он обладал необходимым остаточным ресурсом для вхождения во власть при
исключительных стартовых условиях единолично отобранного им наследника. И этот
выбор был едва ли не худшим за все годы его политической жизни. Лидер,
вынесенный на вершину власти волной
демократической революции и получивший мандат на концентрацию полномочий в том
числе и от своих демократических союзников, сделал под конец всё от него
зависевшее, чтобы власть досталась силовой группе политической элиты, которая небезуспешно
реставрировала авторитарный режим.
Основной
урок противоречивого феномена Б. Ельцина – колоссальная опасность безоглядной
мобилизации масс по модели «вождь и народ» в обход представительных институтов.
Выстраивалась политическая система, зацикленная на лидера. Для общества, на
ощупь выходившего из коммунизма, это была главная не упущенная, к несчастью,
возможность эволюции. Последнее политическое решение Ельцина оказалось
разрушительным по отношению ко всему его вкладу в продвижение свободы,
демократии и права в России.
В
заключение о перспективах. Ныне уже стала очевидной основная тенденция развития
России «после Ельцина» – последовательный демонтаж основных достижений
перестройки и постперестройки, реставрация авторитарного режима. Вмешательство
в события на Украине, новый виток запретительного законодательства и
правоприменения. идеологические погромы, возврат к худшим образцам
противостояния на международной арене перевели наше общество в новую реальность. При данной власти
движение в тупик стало необратимым. Исчерпание возможностей рентно-распределительной
экономики, нарастающее технологическое отставание (в том числе в
привилегированных отраслях космоса и ВПК), вытеснение России из систем мировых
финансовых и инновационных связей, изношенность основных инфраструктурных
объектов, депопуляция больших территорий, «эмиграция мозгов», нарастание
социальных и этнических напряжений и другие негативные процессы угрожают
серьезными потрясениями. Резкое обострение конфликта с Западом выталкивает
Россию из цивилизованного мира и перекрывает важные средства исцеления от наших
бед.
С
тупикового пути все равно придется сворачивать, если приоритет сохранения
общества и государства в России возобладает над стремлением нынешней правящей
группировки удержать власть. Произойдет ли это мирно (в чем объективно
заинтересованы все, за исключением разве что групп авантюристов), когда и при
каких обстоятельствах – открытые вопросы. Мы не знаем сейчас ответ на них,
потому что не располагаем информацией относительно трех важных моментов
выживаемости системы. Как велики сохраняющиеся ресурсы и как долго они позволят
продолжать скольжение по наклонной плоскости? Сколь велика готовность
российского общества терпеть ухудшение социальных и материальных условий жизни,
замещая действительные заботы «чувствами
глубокого удовлетворения» вроде
«крымнашизма» и т.п.? Как складываются отношения и как меняются
настроения внутри «черного ящика» –
узкого властного конгломерата? Внятных сигналов из этих закрытых систем пока не
поступает.
Остается,
правда, память о том, что Россия не раз приступала к назревшим преобразованиям,
когда приближалась к катастрофе. В этом, может быть, все-таки некоторая надежда
на то, что обстоятельства субъективного порядка смогут изменить вектор
нынешнего развития. Как когда-то сказал любивший парадоксы бывший московский
мэр: «В России происходит только невозможное». В этом, быть может, заключается
слабый проблеск оптимизма.
Олег ЗАМУЛИН:
Спасибо, Виктор
Леонидович. Теперь Олег Михайлович Буклемишев.
Олег
БУКЛЕМИШЕВ (директор Центра исследования
экономической политики экономического факультета МГУ):
«Реформаторы первой волны
слишком полагались на рынок и тем самым фактически предпочитали снять с себя
ответственность за последствия»
Когда я услышал,
что Наталья Васильевна Зубаревич выступает с докладом в ВЭБе, я задумался: что
же это мне напоминает? А потом понял: это в чистом виде строчка из Высоцкого: «Меня
зовут к себе большие люди, чтоб я им пел «Охоту на волков»…».
В отличие от
коллег я постараюсь говорить не о прошлом, а о будущем. В данный момент изучить
уроки прошлого, конечно, очень важно, но еще важнее посмотреть в будущее и
постараться понять, а что там нас ожидает, какие реформы и в каких условиях
придется делать.
Несколько беглых
мыслей на этот счет.
Первый тезис. Мне
кажется, что новая волна реформ вынужденно не будет плановой. То есть реформы
будут скорее не как те, которые в начале нулевых годов мы пытались делать, а как
преобразования начала 90-х, когда всё лежало в руинах и приходилось действовать
«с колес», день за днем затыкая дырки и мучительно изыскивая ресурсы на следующий
шаг. Ощущение именно такое, а почему так произойдет, думаю, аргументировать
долго не нужно.
Приведу лишь два
соображения. С удовольствием процитирую моего коллегу и товарища, –присутствующего
здесь Андрея Яковлева, который не так давно прочитал блестящую лекцию о том, что
в России сейчас впервые за много лет у элиты отсутствует образ будущего. И это
наблюдение само по себе дорогого стоит. У какой бы то ни было элитной группы и
у элиты в целом образ будущего в данный момент отсутствует, мы не знаем, к чему
стремиться. Соответственно мы не можем составить никакой план будущих реформ,
даже не можем сформулировать, какая цель перед ними ставится.
Ну, а второе
обстоятельство довольно банально. В России реформы в хорошие времена не
делаются, я с Евгением Евгеньевичем готов тут поспорить. Можно вспомнить период
с 2004-го по 2008 год, пять лет, когда можно было что-то сделать и когда ресурс
был. Достаточно упомянуть триллионные оценки притока нефтедолларов в российскую
экономику…
Сейчас уже
многие это забыли, но я очень хорошо запомнил, что когда я покидал Белый дом на
Краснопресненской набережной в феврале 2004 года, цена нефти была 23 доллара за
баррель. Всего через месяц-полтора произошел резкий скачок цен, и после этого
они даже близко не возвращались к прежним уровням. Вот это всё Эльдорадо
куда-то ушло. И в числе преобразований, которые случились с 2004 года по 2008-й,
и даже вплоть до нынешнего времени (я экономику, конечно, беру), можно назвать
монетизацию льгот – реформу
совершенно провальную, бесцельную и ненужную и административные реформы с еще
худшими, как мне представляется, результатами.
Вот и всё, что
породило наше нефтяное Эльдорадо. Поэтому я подозреваю, что новая волна реформ
начнется только тогда, когда это Эльдорадо закончится. И не просто закончится,
а убедительно. У меня есть такое ощущение, а я в данном случае руководствуюсь
чистой интуицией, что при нынешней политической конструкции Россия уже достигла
своей высшей точки экономического развития. То есть дальше мы можем только упираться
в этот потолок, и пробить его, к сожалению, не получится. Но, с другой стороны,
болтаться в этом состоянии, наверное, какое-то время ещё можно (достаточно
оценить, насколько хватит резервов и т.д.). Однако это немножко другая история,
я бы хотел её оставить в стороне.
Второй тезис,
которым я хотел бы поделиться, такой: вообще-то мне, как экономисту, здесь
выступать не стоило. Потому что на сегодняшний день актуальных экономических
реформ в России нет. Или есть экономические реформы, которые даже будучи реализованными
либо вообще не принесут результата, либо принесут какой-то совершенно контрпродуктивный
итог. Так уже много раз случалось.
Все необходимые
сегодня реформы лежат во внеэкономической сфере. Они могут реализовываться
экономическими средствами. Могут как-то где-то подпитываться параллельными
действиями в экономической сфере. Но я не вижу, честно говоря, насущной
реформы, которая была бы чисто экономической.
И третья вещь,
которая самая важная, самая дискуссионная. Собственно, какие это будут реформы?
Реформы бывают, строго говоря, двух типов. Одни – это реформы технократические, которые задуманы, нарисованы, в
кабинетах и перенесены в реальный мир. А есть другие реформы, которые либо
вырастают из площади, либо с этой площадью согласуются, либо как-то еще рождаются
в политической борьбе. Это реформы совершенно другого свойства. Они намного
сложнее, и идут они, скорее всего, по более запутанной, извилистой траектории. Будущие
реформы, конечно, будут реформами второго типа.
А что из этого
следует? Из этого следуют две очень важные вещи. Первая –то, что не
бывает реформ без издержек, и эти издержки в идеале должны распределяться
относительно равномерно, и нести их должны, в том числе, и элиты. Я напомню,
что даже наша любимая либеральная мера под названием «плоская шкала
налогообложения» была реализована, по сути, за счет бедного населения России. Тот
самый процент, на который мы подняли планочку плоской шкалы (с 12 до 13%), был изъят
у бедных слоев населения; остальные от этого только выиграли. Таково было
равновесие, на тот момент сконструированное.
Сегодня, когда
начинают заговаривать о реформах, очень хочется понять, чем элитные группы
готовы сами ради этого пожертвовать. Вот коллеги уже совершенно правильно говорили:
бизнес не готов к конкуренции, адвокаты не готовы к конкурентному суду. Да
вообще никто не готов к конкуренции. Все не любят конкуренцию, она жутко плохая
штука, кроме того, что всё, что помимо нее, еще хуже. Никто не готов
поступаться ничем.
И таких примеров
довольно много. Нет ни одной элитной группы, которая бы говорила: я беру на
себя эти издержки, я их буду нести ради того, чтобы лучше стало всем. Очень
часто у нас в прошлом реформы либеральные (а поскольку я отношу себя к либералам, это и мне упрек) проводились
скорей как снятие с себя ответственности. Мол, пускай рынок сам все отрегулирует
(цены, валютный курс и т.п.). В
действительности это, по-моему, безответственность, а не либеральная реформа.
Ну и последнее. Всякая
реформа –это риск. Риск политический.
Кто-то должен этот политический риск на себя взять. А чтобы брать на себя
политический риск, должен быть некий политический мандат. И вопрос во многом в
том, каков будет этот политический мандат на реформы, как он будет сформирован,
какими группами населения делегирован, какими элитами.
Вот этот вопрос мне
представляется на данный момент самым интересным. И на этом я, пожалуй,
закончу. Спасибо.
Олег ЗАМУЛИН:
Уважаемые
коллеги, у нас уже развернулась довольно интересная дискуссия. Есть еще
желающие высказаться? Андрей Александрович, пожалуйста.
Андрей ЯКОВЛЕВ
(директор Института анализа предприятий и рынков НИУ ВШЭ):
«За компромиссом
крупного бизнеса и федеральной бюрократии крылось доминирование силового
мышления, и это стало для процесса реформ миной замедленного действия»
Я хотел бы поблагодарить
Евгения Григорьевича и Андрея Колесникова за саму идею дискуссии. Сегодня получается
своего рода вечер воспоминаний, но, на мой взгляд, если говорить о будущем, важно
как минимум извлечь из прошлого некоторые уроки.
Я работал, еще будучи
аспирантом, в отделе Евгения Григорьевича в ЦЭМИ, успел даже поучаствовать в составлении
программы «500 дней» Явлинского и вообще много где присутствовал. Так что мог наблюдать
процессы реформ не только снаружи, но также изнутри. И хочу поделиться несколькими
соображениями.
Если брать
историю, то существенное отличие нашей ситуации от той, что была в Восточной
Европе и даже в Китае, заключалось в ином качестве элиты. Я в принципе человек
демократичный, но при всем том считаю, что институты создаются не массами, они
создаются элитами. Массы могут сделать революцию, это правда, а дальше что-то
получается или не получается уже в зависимости от того, в какой мере элиты
понимают происходящее, что именно они делают, и, более широко, – насколько
качество элит соответствует задачам развития общества на новом этапе.
Нашей проблемой,
на мой взгляд, было то, что советский режим просуществовал слишком долго. В
Восточной Европе он держался примерно 40 лет, даже чуть меньше, и при этом даже
в течение этих 40 лет сохранялась контрэлита. В той же Венгрии, в той же
Чехословакии были люди, которые выступали против режима, – в 1956 году,
в 1968 году. Они отнюдь не все уехали из страны. Они отнюдь не все были в
тюрьмах. Тот же Вацлав Клаус, экс-президент Чехии, после 1968 года был рядовым научным
сотрудником, тем не менее он находился в стране, мог работать, мог общаться с
людьми. И таких, как он, было довольно много. Эта контрэлита, руководствующаяся
определенными убеждениями и ценностями, в момент политического потрясения могла
прийти на смену прежней власти.
Другая ситуация,
которую мы сегодня не затрагиваем, но которая тоже примечательна, – была
в Китае. Я имею в виду реформы Дэн Сяопина в конце 70-х годов ХХ века. Не
случайно, что их начинали и проводили люди еще из первого поколения китайских
революционеров, к которым относится и сам Дэн Сяопин. По своим взглядам эти
люди, безусловно, отличались от демократической контрэлиты в странах Восточной
Европы. Но при этом они сохраняли верность идеям и думали о будущем страны. В
этом смысле Китаю повезло, потому что в СССР это поколение было полностью
вычищено в предыдущий период репрессий. Да, во время хрущевской оттепели часть
репрессированных вернулись из лагерей, но они в лучшем случае получили персональные пенсии. В
политику никто из них не вернулся.
В Китае же
возврат в середине – конце 70-х в большую политику старых лидеров,
возглавлявших партизанскую борьбу против Японии, создававших КНР в конце 40-х и
потом прошедших через репрессии «культурной революции», способствовал
прагматическому повороту в политике. Дэн Сяопин и его соратники, увидевшие
жизнь не только сверху, но и снизу, стали следовать принципу «Не важно, какого
цвета кошка – черная или белая, важно, чтобы она ловила мышей». Такой подход,
дававший практические результаты (и сравнимый с НЭПом в Советской России в
20-е), позволил Дэн Сяопину победить в противостоянии с Хуа Гофэном, который был
гораздо моложе Дэна, придерживался традиционных маоистских взглядов и являлся официальным
преемником Мао Цзэдуна.
Этот прагматизм
отличал Китай конца 1970-х от СССР конца 1950-х – когда советская элита еще
разделяла коммунистические идеи. Например, Хрущев, публично объявивший
соревнование с США по производству мяса, молока и масла на душу населения,
по-видимому, действительно искренне верил, что Советский Союз, который смог
запустить спутник и создать атомную
бомбу, уж такие-то задачи за три года точно сможет решить. Одновременно на
волне технических достижений Советский Союз стал постепенно открываться
внешнему миру – прежде всего, в целях самопропаганды. В Москве прошел Международный
фестиваль молодежи и студентов, состоялась Американская выставка в Сокольниках.
И выяснилось, что пока у нас ради «построения коммунизма во всем мире» люди 25
лет жили в коммуналках или вообще в бараках, в Америке для простых людей со
всеми этими кухнями, которые американцы привезли на свою выставку, был
достигнут на порядок более высокий уровень жизни. И на фоне провала
амбициозных, но основанных сугубо на административном принуждении планов Хрущева
по развитию сельского хозяйства все это стало очень большим ударом по советской
идеологии.
Однако
окончательный перелом произошел в 1968 году в связи с событиями в Праге.
Введение советских войск в Чехословакию, в моем понимании, означало, что советская
элита посчитала движение к «социализму с человеческим лицом» угрожающим для
сохранения своей власти. И в итоге предпочла «остановить время» и прекратить
любые реформы – включая попытки внедрения экономических стимулов в
промышленности, предпринятые Косыгиным.
Иными словами,
как в старом анекдоте про Леонида Ильича, задернули шторки и приказали
раскачивать вагон – типа, мол, едем. Благо, в конце 60-х открыли богатые
нефтяные месторождения в Западной Сибири, а потом в 1973–1974 годах
резко выросли цены на нефть. И на таком обмене доходов от нефти на импортные
потребительские товары, зерно и оборудование протянули еще примерно 15 лет.
Но, с точки
зрения качества элиты, проблемой было то, что в этот период, по сути, было
признано идеологическое поражение. И люди в составе элиты, в том числе высшей,
продолжая говорить по телевизору, а также на партсобраниях правильные слова, у
себя на кухне вполне откровенно называли вещи своими именами. Начался
интенсивный процесс деградации элиты и утраты ею каких-либо моральных ценностей.
В конце 1980-х
годов в высшем руководстве насчитывалась какая-то доля людей, которые действительно
пытались что-то сделать. Но им катастрофически не хватало прагматизма,
понимания реальности и банальных базовых экономических знаний. Затем на волне
событий 1991 года, с формальной точки зрения, произошла персональная смена
высшей элиты. Но слабость реформаторов и провалы реформ объяснялась именно
отсутствием сильной контрэлиты. Режим в Советском Союзе был жесткий, и почти
всех, кого можно было, либо выжили в эмиграцию, либо посадили, либо упрятали в
психушку. Оставались ультрарадикальные люди типа Новодворской, они были святыми,
но они не могли ничего построить, они могли только разрушить.
В итоге на смену
старой элите пришло просто младшее поколение советской номенклатуры,
отличавшееся высшей степенью цинизма. Эти люди использовали лозунги, в которых
фигурировали рынки, демократия и все остальное, для того чтобы реализовать свои
частные интересы. И в условиях очень сильной, моральной, прежде всего, деградации
советской элиты получилось то, что получилось. На это, безусловно, наложилось
то обстоятельство, что, к сожалению, у граждан страны просто не было опыта
новой жизни. При справедливо упоминавшейся здесь эмоциональной поддержке реформ
люди в принципе не знали, как жить в условиях демократии. В итоге массами
начали легко манипулировать на выборах, которые были в 1990-е годы. Уже тогда
вовсю практиковались «черные технологии». Просто об этом писали меньше.
На этом фоне
большое значение имел кризис 1998 года – объективно он стал большим потрясением
для общества и для элиты. Ведь при всех искажениях и манипуляциях начала –середины 90-х идея либеральной демократии служила неким образом будущего,
который с конца 80-х годов пытались предлагать не только народу, но и элите.
Так вот, кризис 1998 года, безусловно, был не только кризисом экономическим и
политическим, но и кризисом идеологическим. Всем стало понятно, что модель не
срабатывает. Нужно что-то вместо нее.
С осени 1998-го
на разных площадках шел активный неформальный диалог между представителями элиты,
причем такой элиты, которая уже приобрела активы, которой было что терять. Кстати,
большинство из ее состава вообще ничего не потеряли в тот год. Реально потеряли
люди типа Смоленского, Виноградова, остальные сохранили свое. Но они понимали,
что если будет продолжаться то, что было в середине 90-х, со всем этим бардаком
и хаосом и отсутствием государства, это будет чревато для них крупными
потерями. И начался процесс неформального диалога и поиска прагматичных
решений.
Олег Буклемишев упоминал
о налоговой реформе. На мой взгляд, это как раз один из примеров компромисса,
который был найден внутри элиты. Эта реформа была в числе наиболее успешных преобразований.
Причем она проводилось в 2001–2002 годах, еще до выстраивания
декларированной Путиным «вертикали власти», – когда и олигархи были
сильными, и губернаторы избирались, и Дума была реально многопартийной. Успех
налоговой реформы стал возможен именно потому, что она проводилась с учетом интересов
ключевых элитных групп.
Ситуация 1998–1999 годов как раз характерна тем, что
пошел процесс поиска компромиссов. И даже относительный успех программы Грефа
начала 2000-х годов объясняется тем, что на тот момент уже сформировались
ключевые консенсусы. И по поводу восстановления государства, и по поводу определенного
удаления большого бизнеса от большой политики. Возникли и механизмы диалога. Так,
в начале 2000-х годов была проведена реформа РСПП, куда специально пригласили
всех олигархов. И Путин вместе с ключевыми министрами раз в полгода публично
встречался с бюро правления РСПП. Это, полагаю, было важным институтом, который
обеспечил для обеих сторон – высшей бюрократии и олигархов – определенное
взаимопонимание, то есть представление о том, что хочет делать другой игрок. И такой
обмен планами и намерениями, а также видением проблем снижал неопределенность и
риски и выступал фактором создания условий
для экономического роста и развития.
Тем не менее, на
мой взгляд, под всей этой конструкцией была заложена мина замедленного
действия. Я имею в виду доминирование у обеих групп, олигархов и федеральной
бюрократии, «силового мышления». Все участники рассматривали сложившуюся ситуацию
как временное перемирие, после которого «мы все равно возьмем всё». Победу
такого мышления ознаменовало дело ЮКОСа.
На мой взгляд, у
обеих групп, и у бюрократии и у олигархов, в действительности в голове была
одна и та же модель, на которую они ориентировались. Это был некий вариант Южной
Кореи 1960-х – 1970-х годов, когда существует прочная связка бизнеса и
власти, когда есть большие компании – «национальные чемпионы», тесно
взаимодействующие с государством. Все наши госкорпорации, большие стройки во
Владивостоке и Сочи, Инвестфонд и все
остальное – оно было про это.
Но что случилось
дальше? Кризис 2008–2009 годов показал, что эта модель уже не работает в
такой большой стране, как Россия, и в сегодняшнем мире. Просто мир стал другой.
Он гораздо более динамичный, гораздо более неопределенный, и государство не в
силах определять приоритеты. После этого в период президентства Медведева
предпринималась попытка мягкой полулиберализации и начинался новый диалог с
бизнесом, а также с экспертным сообществом (в формате Стратегии-2020). Но это все
закончилось 2011-м годом, который, в моем
понимании, по своему воздействию на политику реформ в нашей стране сравним с
«пражской весной» 1968 года. Причем 2011 год не в плане наших декабрьских протестов
против манипуляций на выборах, – это была завершающая точка, – а
в плане «арабской весны».
Спроецировав на
себя события в Тунисе, Египте, Ливии, наша нынешняя элита сильно испугалась. Но
если в 1968 году советская элита могла отгородиться от всех, поскольку страна
была более или менее самодостаточная и информационно закрытая, то сейчас мы интегрировались
в мировую экономику и открыты миру. Ресурсов, накопленных силами Кудрина с
товарищами, извините, в лучшем случае хватит на два года, а высокие цены на
нефть уже за спиной. При этом представителям нашей элиты, с их виллами в Ницце,
счетами в швейцарских банках и детьми, обучающимися в Лондоне, вряд ли хочется жить в «осажденной
крепости», образ которой был красочно нарисован Изборским клубом и сейчас
постепенно претворяется в жизнь. И вот началось такое межеумочное состояние,
когда у элиты нет образа будущего, когда люди сами не понимают, чего они хотят.
Соответственно,
меры, которые принимаются сейчас, абсолютно противоречивы. И закономерно, что
идет отток капитала, замедляется экономическое развитие. Это началосьеще до Крыма. Но до
Крыма это было как движение маятника, когда можно было дать «задний ход». А с
присоединением Крыма мы прошли точку невозврата, когда мы сказали и сделали такие
вещи, после которых политически невозможно отступить назад. И в то же самое
время были открыты двери для определенных людей, для определенных сил, которых
в начале 2000-х жестко сдерживали. Теперь этих людей открыто приглашали в Крым
как «добровольцев», этим же людям сейчас дают оружие на Востоке Украины. И у
меня по этому поводу есть большие опасения, к сожалению.
Подводя итоги:
все 2000-е годы я, в сравнении с Евгением Григорьевичем, скорее был оптимистом.
А сейчас, после Крыма и событий на Украине, я, может быть, гораздо больший
пессимист, чем многие здесь сидящие. Потому что, на мой взгляд, то, что происходит
на Востоке Украины, имеет немалые шансы переместиться в Россию. И единственную альтернативу
я лично вижу в каком-то варианте диалога между ключевыми группами в элите, с
попытками поиска прагматичных решений и каких-то вариантов выхода из того
тупика, в который они себя сами загнали. И нас всех загнали. Насколько для
этого сохраняются еще какие-то шансы? Откровенно говоря, не знаю.
Из моего общения
с людьми из бизнеса и из регионов, например, видно, что люди устали от всего,
что они наблюдают. Есть очень большой запрос на бескорыстие со стороны
политиков. И деятели типа г-на Стрелкова (напомню, что это бывший командир
ополченцев в Славянске) не случайно собирают до миллиона просмотров, размещая
ролики своих интервью в Ютюбе. То есть существует запрос на людей, у которых есть идея и которые готовы все свои
силы тратить для реализации этой идеи. Но страшно то, что г-н Стрелков ради
идей, в которые он лично верит, готов положить десятки и сотни тысяч людей с
обеих сторон.
И перед нашей
элитой, на мой взгляд, сейчас стоит большая проблема. Кстати, это относится и к
либеральной части элиты. Ею принималось много чисто технократических решений, и
эти люди в идеи уже не очень верили. Даже те либеральные коллеги, работающие в
правительстве, типа Аркадия Дворковича, давно, как мне представляется, не верят
в то, что в наших условиях можно реализовать что-то такое «сильно либеральное».
На этом фоне такого идеологического размывания, к сожалению, персоны типа г-на Стрелкова
имеют шансы прийти к власти – со всеми вытекающими последствиями. Может быть, я
заканчиваю слишком печально.
Олег ЗАМУЛИН:
Да,
действительно оптимизма эта концовка не прибавила. Я как раз хотел в какой-то
момент более оптимистично высказаться касательно будущих реформ, которые непременно
начнутся. В отличие от тех реформ, которые были в 90-е годы, они, во-первых,
пройдут, надеюсь, не на фоне катастрофического спада экономики. А во-вторых, все-таки
действительно у нас сейчас есть время хорошенько подготовиться к реформам в
рамках тех дискуссий, которые мы проводим, и с учетом тех исследований, которые
мы делаем.
Еще одно
выступление, и затем, наверное, можно дать заключительное слово Евгению
Григорьевичу.
Аркадий ЛИПКИН (профессор РГГУ):
У меня реплика.
Сложилось какое-то странное впечатление от нашего обсуждения – будто слона в
темной комнате пытаются описать. Лично мне хочется уяснить две вещи.
Первое.
Понималось ли, когда проводились реформы, что они «забивают» тот
социально-культурный слой, на котором росла вся тяга к демократии и высокая
культура? Ответ я, вроде, получил: поскольку господствовал экономоцентризм, то
об этом не очень заботились. Так ли это?
Второе.
Как соотнести утверждение, что всё решается внутри элит, и рассуждения про
площадь? Потому что тут говорилось про площадь, но потом про это забыли.
Ситуация с площадью – то, что происходило на границе 90-х. Вы действительно
думаете, что в обозримом будущем эта ситуация «площади» может воспроизвестись? Нет
ли тут аналогии с афоризмом «Генералы всегда готовятся к вчерашней войне»? Вы
полагаете, что в нашей теперешней ситуации что-то либеральное может происходить
иначе, чем это происходило в царской России, то есть путем реформ сверху?
Вариант с элитами – это ведь не про это? Или про это?..
Наверное,
это вопросы уже для следующих дискуссий об уроках реформ.
Олег ЗАМУЛИН:
Теперь
Евгений Григорьевич. Вам слово.
Евгений ЯСИН:
«Кризис заставит прибегнуть к иной
политике, чем та, которая проводилась в условиях быстрого роста цен на нефть и
благоприятного экономического климата»
На мой взгляд, разговор получился содержательный. Я внимательно прислушался
бы ко всему, о чем говорили выступавшие здесь коллеги. И самому мне осталось
только сказать следующее. Я давно, примерно с 2003 года, был убежден, что нас
ждет серьезный кризис или, если хотите, стагнация. И это заставит власти
прибегнуть к иной политике, чем та, которая проводилась под защитой быстрого
роста цен на нефть.
Вообще последнее десятилетие заслуживает особого внимания и детального
рассмотрения. Это было время благоприятных условий для экономики. Не
воспользоваться этими благоприятными условиями для того, чтобы закрепить власть
тех бюрократических групп, которые ее уже и без того захватили, было бы как-то
противоестественно для нынешнего режима. 2008 год положил конец этому преимуществу.
И сегодня мы наблюдаем картину, которую я бы не советовал переусложнять.
Что я имею в виду? Все разговоры о том, что Россия «особая страна», что у
нее особый путь, чего мы, мол, раньше не учли, что мы не можем действовать так,
как действовали на Западе, что нам не подходят соответствующие механизмы и так
далее. У меня есть возможность читать много работ, посвященных этому кругу
вопросов, и в таких исследованиях нередко убедительно показывается, что некие
события, происходившие в данный период, являлись попросту конкретным выражением
определенных интересов определенных групп.
Перемены, о необходимости которых шла сегодня речь, по моему убеждению, – вопрос времени. Я вижу в зале много
молодых лица. И хочу обратиться к молодежи: приближать позитивные перемены – это и ваша работа.
Андрей Александрович Яковлев был прав, когда упоминал одного деятеля из
националистического лагеря, набирающего определенную популярность у части
общества. Такая опасность есть. Однако я придерживаюсь мнения, что в России, в
ее широких кругах, все же сильнее поддержка либеральных и демократических сил,
чем тех, которые устанавливали Новороссию.
И последнее. Я боюсь слишком резких мер, которые могут осуществляться в
России, в том числе со стороны сторонников либерального курса. У либералов не
так много сил и ресурсов, они не могут устраивать заговоры и т.д. Им следует
каким-то образам противодействовать власти, когда она слишком «перебирает». И
вместе с тем все-таки сотрудничать с властью, искать возможности эволюции
нашего режима в желаемом направлении. Это не быстро, я не знаю, как это всё
реализовать, и уже не готов строить планы на этот счет. Но немного утешает меня
тот факт, что формирование демократических режимов в Великобритании, Франции, Соединенных
Штатах Америки тоже было долгим процессом. Никак нельзя сказать, что это
произошло согласно поговорке «вынь да положь».
Насколько я знаю, в кругах, близких к президенту, идет борьба между людьми,
которые ставят разные цели и разные задачи. Некоторые из них довольно близки по
взглядам тем, кто сегодня выступал. Поживем
– увидим. Хорошо уже и
то, что мы сегодня поговорили об уроках реформ и о новых шансах на
демократические преобразования. На мой взгляд, в том, что говорили выступавшие,
было много разумных мыслей. Нужно продолжать начатое, потому что за нас это
мало кто сможет делать. Желаю всем успеха, а особенно молодым.